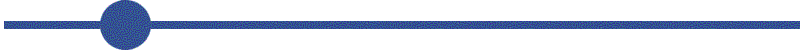 |
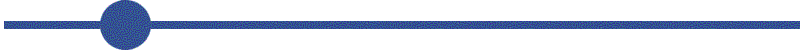 |
|
1. Казалось, самое легкое сейчас. И можно тяжело вздохнуть. И в этом наборе воздуха, помимо сладкого желания продолжать этот марафон, будет еще и гаденькое самодовольство - сделано больше возможного. Великолепная улица. Мокрая. Никого. Словно раньше. Но я знаю, что будет только теперь. Это магия формулы "никогда", с которой все время приходится бороться, оборачивается неожиданными преимуществами: ты вспоминаешь. "А жизнь - всего лишь искупление за тяжкий грех самоубийства..." Теперь, по прошествии лет, каждое слово наливается смыслом. И каждый раз новым. В этом смысле можно существовать совсем и вполне, как поступают многие мои хорошие знакомые. Как поступаю я, когда шаг становится мягким, крадущимся и не несет направления, но только задает ритм "ра-та-ла-та-та-та-та". И сливается единой перемазанной палитрой вечер. Огонь ложится на воду, воздух смешивается с асфальтом, лист проступает в пучке фонаря, на фоне отмели постзакатного неба. А небо продолжает выполнять оператор присваивания, Рассвет = Закат, или наоборот. Задавая еще один ритм. Такой же ненужный. Натужный. Натянутый на каркас опрокинутых отражением контуров. Единого универсума Города. Единого континуума Города. Замкнувшего в себя все, что попадается на моем пути. 2. Первый город был выткан из мрамора. 3. Этой фразы было уже настолько много, что я не стал отвлекаться для того, чтобы как-то продолжить. Ни одно предложение не становилось ей вслед. Поэзия, дитя разврата, могла бы утешить меня, но не рождалось. (Я честно попробовал несколько раз.) Кстати, в одном КиндэрСюрпризе мы нашли гномика, делающего подкову. Он был одет в фартук моего любимого цвета (справка: умбра) и смотрел на меня исподлобья. 4. Так проходят дни, подумалось мне, и я пошел по городу в поисках сюжета. Сюжет всегда приходит одновременно с возможностью каким-то образом повлиять на формы проникновения вечера. (Но кого это должно волновать, кроме меня.) У меня была своя история. Я очень ярко вижу ее, когда смотрю плохой кинематограф. Я очень ярко вижу эту мизансцену. Раннее-раннее утро. Он выскакивает из подъезда. В смятении. Растрепанный. Неумытый. И бежит, словно знает куда. А навстречу ему идут люди. Парами. Ровно. Неспешно. Держа друг друга под руки. Поравнявшись с очередной парой, Он слышит слова приветствия и видит легкий поклон мужчин и улыбку женщин. Эти лица, с увеличением скорости Его побега, начинаются сливаться, искажаться, превращаясь в одну гримасу, распластанную словно забор. Это событие - главное. В него можно войти сотнями различных способов. Выйти из него можно только одним способом. Упасть на асфальт. Закрыть лицо руками. И так лежать, пока не кончится день. 5. Пока не кончится день. Именно в этот момент название моей работы приобрело тот вид, с которым Вы уже познакомились. И как это бывает всегда, мозаика сложилась и причудливая картина, которой еще предстояло вытянуться в линию моего повествования, вся целиком, словно поезд (взгляд сверху), пронеслась в ожидании моего перехода через Рубикон линии железнодорожных путей. В окне Герой, в ожидании Вероники, помахал мне рукой. Но пусто. Я даже не улыбнулся. Он крутится по своему кольцу, весь наполненный, весь обновленный, . (В этом месте, после запятой, было Грязное Слово.) Ожидание самоубийства затянулось. Это ли тема? Борхес уже все сказал о самоубийстве Бога. Это не относится к нам, смертным. Но так приятно выдумать странную, призрачную дымку: люди, коридоры, двери. И новая сигарета, как повод разорвать стягивающую дыхание кожу, приютилась печально. Только ритм. Только шаги. Только не диагональ. Вверх. Или вниз. Или вправо. Или влево. Мы даже слов специальных не придумали для "вверх-налево", "вверх-направо", вниз-налево", "вниз-направо". Это ли не убогость. "Первый город был выткан из мрамора." Второй, и последний, утопал в ожидании грозы. Тот, кто знает, тот - поймет и посочувствует. (Безумное слово.) Но и этот круг мы проходили. Разлом. 6. Эта работа - для тех, кому пять на шесть. Когда было четыре на семь были другие предчувствия. (Безумное слово.) (Раньше было еще три на восемь, но я не помню этого.) Короткая перебежка и станет шесть на пять. На этом все начнет заканчиваться. Потому, что для продолжения необходим другой ряд. Эта работа для избранных. Для них. На ком печать. Над кем разверзнута длань. В сущности, эта работа проста. Она состояла из трех больших этапов. Первый назывался просто - "Ожидание". Второй был более изощрен. Его имя звучало так: "Не нужно думать, что есть что-то достойное пристального внимания". Третий - "Боль". Пронизывающая. Настигающая тебя внезапно, словно ты принадлежишь поколению. Словно твои руки ласкали эти квадратные километры пространства. Квадратные. По смыслу и по звучанию. Из которых что-то нарастало и нарастало. И выросло. Реквием не удался, - закричал обрадованный Моцарт. Удался, удался, - вторит как эхо, Сальери, обреченный нести на своем имени печать. И стоит только отвлечься, как рубашка их портретов рассыпается колодой на зеленом сукне сопереживания: я алгеброй гармонию разъял... 7. Руки всегда поспевают за мыслью. Вспомните Джордано. Все в этом Мире так умело сложено в коробочку. Главное, не отвлекаться. Главное - не тормозить. Или догонять. Рождается вечер. Убогость нашего языка не позволяет мне перенести на бумагу ту мелодию, которую я подхватываю за спортивными тапочками девчонки, смело путешествующей по лужам: Топ, тап, там-там, топ. Но в этой музыке много настроения. Его можно попробовать передать отрывистыми фразами: Шаг. Рождается вечер. Взгляд в окно. Дома никого. Хорошо? Не знаю. Это незнакомый мне дом. Эксперимент с языком - это всегда эксперимент с жизнью. Тот, кто умеет сворачивать язык в трубочку - поймет меня. А мне большего и не надо. Я рад. И за эту (ни с чем не сравнимую) радость можно заплатить чем угодно. (Временем, например, как самым ярким представителем Чего-Угодно.) Важно только принять решение. Важно оторваться от кажущейся насущности нелепой последовательности событий и шагнуть. Первые два шага дадутся с трудом. И будет болеть. Но можно утешать себя тем, что этот круг - последний. И перетерпеть боль. И снова принять данность. Смешно выглядит, но принять данность - одно из самых тяжелых занятий. Именно в этом процессе возникает стресс. Именно на этой разнице иллюзий, предчувствий и данности возникает ощущение полной безысходности. Сам по себе факт мало, что значит. Но факт минус наши ожидания, или, наши ожидания минус факт, дают странные по силе воздействия результаты. Я говорю эти банальности для себя, ни в коей мере не подвергая сомнению Ваши аналитические способности. 8. Тема - это всегда попытка избежать самого главного. Этот механизм еще потребует своего Фрейда. Почему эмоция, которая создана фразой: "Мир мой пуст", так отличается от эмоции (такой же по семантике), создаваемой другими словами. Последовательности молчания. Или ряд рыба речи. Ощущение от словосочетания «ряд рыба речи» у меня ассоциируются со словом раб. И этому есть причины. У каждого свои последовательности молчания. Этот нелепый калейдоскоп, в котором игра имеет только одно правило. Так думал (или не думал, уже неизвестно) Аякс, захваченный вечером, его самым центром. Центр у вечера приходится на середину отрезка начала переваривания пищи и концом уговаривания себя лечь спать. Утро должно начинаться рано, чтобы не быть в зависимости от будильника. Рабство в любой форме Аякс не приемлил. После смерти брата в городе все изменилось. Стало четче, выверенней. Словно существовал механизм оценки. Точнее - уценки. Сэконд хенд. Весенняя распродажа. После смерти брата осталась странная, непереводимая опухоль, которая давала о себе знать всякий раз. Каждый день. Тем более, что Аякс позволил себе заняться приведением Ахилловых бумаг в порядок (привидения Ахилловых бумаг), что означало создание этих бумаг заново. Ибо не только порядка, даже намека на связность не было в кусочках, отрывках, набросках. Где бумагой (в лучших традициях, которые Аякс ненавидел) служили пачки сигарет, кружочки пивных подкладок и даже носовой платок. Приступы вдохновения. Кровь как реальная альтернатива поту. Первая и как оказалась последняя книга Ахилла была таким же непричесанным собранием полуафоризмов, полуцитат, полуэскизов. Книга не имела шумного успеха. Собственно она вообще не имела успеха. Две банальных статьи ахилловых ближайших друзей - почитателей (противо - читателей), одна в газете, другая в журнале, обе того же издательства, где Ахилл имел радость работать. И за всей этой неприглядной банальностью, которая так огорчала Аякса, было нечто, что он не мог распознать, но ясно чувствовал. За этим стояла какая-то тайна. Может быть даже Тайна, с большой, очень большой буквы. И поводом этому служило три диалога, из прошлого, из того прошлого, где они были вместе и врозь. Диалог первый. Раннее утро. Аякс. Ты опять не спал? Ахилл. Времени не было. Аякс. Ты мог бы выбрать более быстрый способ самоубийства. Ахилл. Этот самый быстрый. Другие не принесут нужного результата. Аякс. Результата? Ты заговорил о результате? Странно слышать. Процесс, самость процесса - вот твое кредо. Ахилл. Ирония твоя есть способ защитить себя от мучительной правды. Ты так гордишься своими результатами, что завидуешь мне лютой завистью, потому что внутри, очень глубоко, понимаешь насколько я прав. Аякс. В чем? Ахилл. В том, что не пытаюсь разделить свою жизнь на утро и вечер, осень и лето, работу и отдых, секс и любовь. Тебя раздражает моя непоследовательность потому, что за ней угадывается некая целостность, за ней твой великолепный аналитический ум видит План. Тогда он так и сказал «План» с большой буквы, при этом посмотрел на меня так, словно проговорился, словно сболтнул, но постарался не показать, чтобы еще более не дать заподозрить. Ахилл был прав. За те годы жизни, что мы провели вместе, он работал над одной единственной вещью. Над Книгой. Счастливый, ему даже не нужно было мучаться над названием. Он писал ее так, словно это была самая первая книга на свете. Единственная. Он оттачивал каждое слово. Каждую буквы. Каждое сочетание звуков. Диалог второй. Поздний вечер. Ахилл. Ты где шлялся. Я уже начал беспокоиться. Аякс. Я бродил по городу. Странно, что ты беспокоишься. Это так привычно. Так естественно. Так традиционно. Так обыденно. Так старо. Так безыскусно. Ахилл. Я вижу, что беспокоился не напрасно. Что случилось? Аякс. Меня обидели. Было все так чудесно. Сначала. Неприхотливая беседа. Полунамеки. Слова с интонацией и значением. А потом она все испортила… Ахилл. Твои сердечные дела отнимают у тебя слишком много сил. Аякс. Неправда. Ахилл. Ты напился? Ты пьян? Аякс. Оставь, пожалуйста, этот отеческо-материнский тон. Разумеется, я не пьян. Но ты себе не представляешь, что такое три разочарования за одну неделю. Ахилл. Ты слишком требователен не к себе. Аякс. Да нет же. Совсем не требователен. Я просто очень устал. Ахилл. Охотно верю. Я представляю насколько это трудно и тяжело - брать ничего не подозревающего человека, устраивать ему испытания на соответствия твоим фантазиям, после неудачи которых выкладывать ему свой приговор, и в результате чувствовать себя совершенно опустошенным. Аякс. Ты не мог бы изъясняться проще. Я правильно тебя понял - ты меня в чем-то упрекаешь? Ахилл. Ты правильно меня понял. Я тебя упрекаю в том, что ты в плену зловредных иллюзий. Грубость ты принял за силу, рассудочность за ум, неумение держать себя в руках за эмоциональность. Аякс. Ты неоправданно строг. Разве я виновен, что моя подруга на горизонте светит, слезинкой затуманенной огнем… Ахилл. Разумеется ты в этом не виноват. Я пытаюсь бороться лишь с тем, что твой способ искать друзей калечит участников этого праздника. Аякс. Калечит? Ахилл. Конечно. Разумеется, ты не задумывался о том, что твои испытания могут навсегда оставить человека с комплексом неполноценности… Аякс. Ты не мог бы перестать произносить слово «разумеется» ? Да и не нужно делать из меня палача. Если есть страдающая сторона в этих процессах, то она - это я… Ахилл. Страдания страданиям рознь. Твои страдания - сладкие, полные надежды и ощущения вечности впереди. Ты живешь набело, любуясь каждой написанной строкой. Не знаю, есть ли у тебя к этому основания, но, во всяком случае, не я стану тебя за это осуждать. Наверное, основа этого и возраст, и избалованность, и плохое чувство гармонии. Аякс. Я буду с тобой спорить. Портрет, который ты нарисовал, ко мне не имеет ровно никакого отношения. Да я сама рассудочность, сама осторожность, сама продуманность! Ахилл. Это система оправданий, не более. Видишь ли, есть два пути поиска. Первый путь - поиск возможного. Да, в нем есть место и расчету, и вариантам, и стратегии. Второй путь - поиск невозможного. (Ахилл замолчал, словно продолжение этой темы для него было слишком болезненным.) Он вновь меня озадачил. Окончание второго диалога состоялось спустя две недели. Собственно это был монолог. В котором я принимал участие как зритель. Или как волк, которому читал проповедь святой Августин. С разинутой пастью. И каждое слово произнесенное в тот вечер было для меня пропастью, от прикосновения с которой сосало под ложечкой. Ахилл. На тебя больно смотреть. Ты
решаешь эту задачу как технологическую.
Словно моделируешь процесс выплавки
чугуна. Если бы ее можно было так решить,
то она уже давно была бы решена. Решение
этой задачи как откровение. Надо
изменять прежде всего себя. Это
единственный приличный способ изменить
мир вокруг тебя. Ты же используешь себя
как биологическую интеллектуальную
машину. Но помимо мышцы ума есть еще две
базовых мышцы, которые надо развивать:
восприятие и душу. Вслушайся. Внюхайся.
Научись воспринимать вкус. Проведи
пальцами по столу так, словно это твое
первое прикосновение в жизни.
Почувствуй гармонию. Ты же хорошо
владеешь карандашом. Проведи линию по
белому листу не насилуя, не пытаясь, но
желая понять чего они хотят от тебя -
карандаш и бумага, соитие которых
рождает эту тонкую линию, присутствие
которой на бумаге достаточно для того,
чтобы сделать осмысленной все
последующие годы твоего существования.
Пройдись по городу. Но не как ловец, не
как хищник, желающий реализовать свою
давнюю сексуальную фантазию, а как
первый инопланетянин, вступивший на
Землю. Сделай так, чтобы язык, на котором
говорят люди стал тебе не понятен.
Оближи каждое слово. Прими его. Смотрись
в него. Попробуй представить его
тысячелетний путь. Попробуй угадать его
корни. Вспомни себя. Вчерашнего. Ребенка.
Вспомни себя такого, которого не
существует, но так, словно бы это
вспоминание дает тебе новое
существование. (Ахилл запнулся.) Это было как удар битой по голове. Я молча встал и отправился спать. Этот разговор с тех пор всегда стоял между нами. Ахилл внутренне ругал себя за откровенность, а я не мог понять этих слов, я понимал, что они разрушат меня, если я впущу их. И я окуклился. Забытовился. Мой мозг впал в спячку. Видимо, это было защитой. Ахилл все понимал и не тревожил меня. Прошло полгода в каких-то заботах, новых знакомствах, старых причудах и всем остальным, что нередко называется жизнью. Диалог третий. День. (Диалог происходит через две закрытые двери и коридор между комнатами.) Ахилл. Аякс, ты опять рылся в моих бумагах. Аякс. Я не рылся. Я искал программу передач. Ахилл. В моих бумагах не может быть программы передач. Аякс. Представь себе, я ее там нашел. Ахилл. А куда ты дел листочек с записями зеленой ручкой. Аякс. Я его не видел. Ахилл. Он исчез. Аякс. Я его не видел. Ахилл. Я искал его больше часа. Аякс. Я его не видел. На этой фразе Ахилл заходит ко мне в комнату, что уже странно, обычно он кричал «Подойди немедленно сюда» и устраивал разбор полетов на месте происшествия. Он был серьезен. Ахилл. Аякс, мне ОЧЕНЬ нужен этот листок. Аякс. Я его не видел. Ахилл. Пожалуйста разнообразь свою речь, ты меня раздражаешь. Аякс. Я со всей ответственностью заявляю, что не видел твоего долбанного зеленого листочка. Ахилл. Очень странно, а ты не заметил, в доме было все в порядке? Аякс. В каком смысле. Ахилл. Не было чего-нибудь странного. Беспорядка. Не так лежащих предметов. Аякс. Ты думаешь у нас был взломщик, который похитил твой листочек. Ты болен? Ахилл. Вспомни, я тебя прошу. Аякс. Хорошо. И я начал вспоминать. И не смог. А сейчас-то я отчетливо вспоминаю, что ничего странного не было. А зелененький листочек в бумагах брата я нашел. Только уже после его смерти. Вот его содержание: «Последовательности молчания. Ряд рыба речи. Последовательность. Следуя после. Вступая во вслед. Воследовательность. Лед. Лёд. Воспалённость отчаяния. Ряд рыба речи.» Меня всегда поражала в Ахилле эта страсть к формальным играм. Я не находил за ними смысла. Это рекомбинирование было мало убедительно. Это рекомбинирование уничтожало мощь первой фразы. Последовательности молчания. Это было бы вполне достаточно. Зачем двигаться дальше. Зачем облизывать слова. Играть ими. Зачем. Лед. Лёд. Игрища. Забавы. Отсутствие страсти. Немота. Ряд рыба речи, одним словом. Неужели, вот так день за днем, словно пациент, можно было разглядывать этот мусор. Последовательность. После довательность. После давать. После дать. После даты. Последыши. После даты ши. По слепыши. По склепыши. Склепыши. Склеивателиши. Скелеесшиватели. Склеиватель. Ваятель. Воитель. Вой. Вой тель. Вой тень. Вслепень. Вслепышинь. Что это? Что это было? Аналитика звукоряда (рыбы речи) или все-таки попытка организовать это вслушивание. Вслуши в оние. Я технолог. Это мое кредо. Ряда. И я решил во-первых. Просто забить все тексты (точнее наброски) Ахиловы в компьютер. Чтобы были в цифре. На магнитном носителе. Аккуратные и причесанные. И эта работа отняла у меня три часа каждый день в течении восьми месяцев. Где-то на третьем месяце я привлек к работе Ириску (это мое новое увлечение, ничего общего с Прекрасной Незнакомкой). Моя встреча я Ириской произошла удивительно, я даже надеялся (я всегда на это надеюсь), что это Она!! На улице, посреди потока, где я обычно люблю стоять, вызывая гнев и раздражение, ко мне подходит девчонка, довольно приятной наружности и говорит: - У меня очень редкое имя. Ирис. И делает ударение на первый слог. И’рис. - Значит зовут тебя, Ириской, так? Она фыркнула и пошла. Я за ней. И с тех пор мы (уже полгода, в этот момент повествования) вместе. Ириска, будучи девчонкой очень ответственной, впряглась. И не механически, а с полной осмысленностью. Она-то и сказала первые слова нашей истории: - Якся! (В зависимости от обстоятельств она звала меня то Якся, то Кукся.) Твой брат был совсем не прост… - Я знаю, а в чем дело? - Те обрывки, которые он удостаивал заглавия, в заглавии своем всегда имеют два слова, четыре слога и ударение на первый и третий. Рельсы стучат в таком ритме. Туки-туки. Я тогда еще не знал к чему это все, но для того, чтобы в дальнейшем не попасть впросак заметил: «Умница». Вообще-то Ахилл очень редко именовал свои наброски. Когда я занимался творчеством (и у меня бывают такие странные периоды), то предпочитал нумеровать. Стихи. Новеллы. И с радостью отмечал юбилеи. Больше всего радовало, когда происходило переваливание (переливание) за сто и получалось три цифры. Я очень гордился своей продуктивностью (не меньше одной маленькой работы в день) и поэтому начиная новую книгу стихов (у поэтов они должны идти по периодам), обычно ставил так 001. Получалось весьма внушительно. Ахилл был другой. Совсем другой. Словно я не являлся продуктом его воспитания (мы рано остались одни, а он был меня существенно старше). Когда ему заказывалась статья (вернее, когда он брал статью в работу, поскольку его очень ценили и всегда лежала специальная папка проблем, из которой Ахилл время от времени, далеко не регулярно, вытаскивал на божий свет тему и принимался за работу), то он работал иначе. Очень на мой взгляд странно. Как бы работал я. Сначала я создал бы структуру статьи. Затем стал прорабатывать опорные тезисы. Продумал бы систему перекрестных ссылок и увязок (они создают глубину и ощущение проработанности). А затем набросал бы текст, при этом потратив на редакцию меньше времени, чем на его создание (очень нравится текст, который выходит из под моих рук, я редко что-то кардинально редактирую). Ахилл работает принципиально иначе. Вначале (Вы чувствуете эту рифму «иначе - вначале»?). Так вот Ахилл мог бы зацепиться, например, за это. Иначе. Вначале. Почему. И-нач-е. В-нач-але. Нач. Подначивать. Начинать. Начальство. Ночлег. Ночь. Но что. Очень трудно передать КАК он это делал. Сейчас, в моем пересказе это выглядит как забавная и неловкая игра. Для него это было и пыткой и расследованием и самоизвержением (аутокулляцией). Почему? Он задавался вопросом «почему». Я задавался вопросом «как». Он не был поэтом. (Поэтому он не был.) Поэт иллюстратор. Ахилл не был иллюстратором. Он умел поддерживать грань между невпаданием в анализ и невозможностью синтеза. Его кредо было антиразрушение. И разницу между антиразрушением и созиданием он чувствовал очень остро. Когда он работал над статьей ему не нужна была структура. Ему была нужна пустота. Для нас, обычных людей не лишенных таланта, пустота есть негативный фактор. Она нам мешает. Мы ее преодолеваем в попытке сконструировать Нечто. Для него пустота была начальной фазой существования. Он преодолевал в себе «мусор», он разъедал сознание для того, чтобы зародилась чистая линия. А такая линия может быть только в пустоте. Великой пустоте. Я, конечно, многое домысливаю, но его уже не спросить. Я думаю, что он одновременно удерживал все варианты статьи. И искал самый совершенный. Который мог родиться сам. Без его участия. Мы, обычные люди, не лишенные таланта, вносим в творчество Личное. Мы окрашиваем творчество личным. Как добавляют специй в кушанье. Это личное отличает наше творчество. Ахилл извлекал из творчества личное. Он хотел сделать так, чтобы за этим кружевом слов его самого не было видно, чтобы это кружево существовало само по себе. И возникали странные эффекты, которые для нас, обычных людей, не лишенных таланта, есть высшее проявление творчества. Какой-то неожиданный парадокс. Новый взгляд. Ракурс, в котором вещь обнажалась. Для него это было даже не цель. Просто один из вариантов путей. Одним из возможных сочетаний. И отношение к успеху сильно отличалось от нашего. Его статьи умели шумный успех (в отличии от книги, которую он ценил намного больше, хоть и считал ее чем-то вроде отрыжки). Он не то, чтобы стеснялся этого успеха, он был всегда искренне удивлен, почему его, только за то, что он проявил (его термин) на бумаге несколько слов, которые уже там стояли, необходимо устраивать такие буйства. Эта была гордыня иного сорта. Иной пробы. Высшей. Еще одной особенностью было то, что он никогда не подшивал свои работы в папки, не хранил их. Не перечитывал, не использовал дважды какой-то ход. Он мог дрожать за обертку от конфеты, на которой было нацарапано слово «Вошь», он мог устроить скандал, что я прибрал у него на столе и изменил порядок лежащих там бумаг, но он ни разу не прочитал работу, которую он отдавал в печать. Даже после купирования (иногда не хватало места, был срочный материал) он не интересовался тем, что редактор изъял из статьи. (Правда, Главный резал его материал только в самых крайних случаях, но легкую редакцию позволял.) Как-то я носился по комнате с идей нового толковая фразы «Вначале было слово». Обычная трактовка сводится к тому, что слово является источником всего сущего. Мне показалось, что фраза содержит в себе еще смыслы. Два и очень красивых. Первый смысл в глубине «было». Слово было вначале, но теперь безвозвратно ушло. Второй смысл в том, что вначале было слово «вначале». И это очень странно, ибо таким образом мы уже закладываем протяженность. А значит создаем мир. И этого «вначале» уже достаточно для всего остального. По отношению к этому «вначале» все остальное лишнее. Разумеется, я бросился к Ахиллу делиться своими открытиями. Он порадовался за меня, нашел это очень интересным, но заметил: «В этой истории есть только одна проблема. Ты можешь начать ставить слово «вначале» в самое начало. Но как только ты начинаешь его ставить, оно уже оказывается в середине.» 9 Закончили работу над ахилловыми привидениями в середине осени. Ириска забила последнюю букву. Я сделал архив файлов и мы решили по этому поводу устроить небольшое торжество. Действие разворачивалось за обеденным столом, на котором ютились деликатесы и бутылка белого вина. - А что ты будешь с Ними делать. - Я еще не думал. Мне казалось, что их процесс их овеществления подскажет мне, что они хотят от меня. Быть может я все отрывки объединю в единый файл. Потом отредактирую. И издам. Главный даже поможет. Он уже носился с планами переиздания Ахилловых статей единым сборником. - А что с ними хотел сделать Ахилл? - Он писал книгу. Та изданная, была как бы даже не прообразом. Это был чисто демонстративный ход. Были какие-то формальности. То ли создание нового отдела, где Ахилл должен был быть заведующим, то ли что-то другое. Ахилл не заострялся. - А как ты считаешь, книга, которую он хотел написать СУЩЕСТВУЕТ? Это был удар по голове. И я все понял. Ириска была совершенно права. Она за всеми кусочками смогла (видимо от природной восприимчивости) разглядеть главное. Книга существовала. И это было настолько очевидно, насколько и тяжело как факт. Ведь мне нужно было бы ее проявить. - Но для того, чтобы ее написать я должен стать Ахиллом. А это невозможно. Вторая мысль догнала первую и вновь раздался удар. Ахилл не писал СВОЮ книгу, как это стал бы делать я, он писал ПРОСТО книгу. - Ириска, а ты будешь моим соавтором. - Конечно. Мы уже давно работаем втроем. Ахилл, ты и я. К мысли, что Ахилл уже давно работает с нами я был подготовлен. Я рационалист и не верю в духов, метапсихозию и другие иллюзии утешения. Но я охотно допускаю мысль, что в не случившейся жизни Ахилла содержалась та работа, которая нам еще предстоит для выполнения. - У меня готова первая фраза. Ириска с готовностью разверзла над клавиатурой свои пальцы, тонкие, но смешные. - Первый город был выткан из мрамора. 10 Первый город был выткан из мрамора. И в городе жил покой. Сравнимый разве с вечным покоем. С этим разделением на слои, где полтора метра земли покрыты травой. Где корни уходят вниз, преодолевая почву и несут соки к кронам. А кроны, словно отражение корней пронизали небо в поисках солнца. Когда я задумываюсь о вечности, я так себе ее и представляю - в разрезе. Человек лежит, завернутый в саван, а в метре от него колосится трава. Странно, что еще полвека назад существовали устремления. Вверх, в космос. Вниз, к недрам. Только поверхность. Только поверхность. Мы живем на поверхности. Поверхность - это основа. Тонкая, полупрозрачная основа, позволяющая быть одновременно и там, и там. И лишь осенняя вода пару раз за сезон скажет нам правду и удвоит этом мир, с тем, что бы могли совершить пару глупостей, наполнив свое существо переживанием. Пере - живанием. Сверх - живанием. Мета - живанием. Ирискин вариант начала (а я хорошо помнил, что начало - всегда точная середина) был иным. На мой взгляд слабее. Первый город был выткан из мрамора. И в городе не было места покою. Суетливые, они не замечали этой горделивой устремленности, этой жажды, которая не проявлялась в нетерпении, а была много сильнее. Жажда. Вариант Ахилла я реконструировал из трех поэтических обрывков. Я не давал себе труда бережно относиться к тексту, у меня было на то Его разрешение. |
||
|
Он слеп мой праздник Корчит рожи смерти И отблески костров я вижу на твоем бедре Ответь мне на вопрос Где окончание тропинки На которой я стою Не уходить? Я гость И чашу треугольную сию До дна я выпил Ровно без запинки Что за допрос Хочу и отвечаю Хочу стою Хочу хожу по кругу Моя подруга? Вот смотри на горизонте светит Слезинкой затуманенной огнем Пойдем отсюда Здесь без нас тоскливо Здесь без нас найдут Чем убивать рассвет Здесь и без нас нет жизни Нет ... Хотел сказать любви, но удержался |
Ты зряч наш траур Неподвижен дыханием своим И тень шагов я слышу В твоих губах Я прокричу в них триста сорок раз Мой круг Открытие, подарок и темница Я хозяин И овал Лица Я вылепил до трещинок в губах В твоих губах Я спрашивать не буду Не буду говорить Не буду Танцевать наш танец В отблесках заката и восхода Останься Здесь Там и без тебя веселье Там и без тебя Не знают Как встречать рассвета весть Там и без тебя есть жизнь И есть... Хотел сказать любовь, но удержался |
|
|
А вечерами мы с Ириской проделывали одно упражнение, которое нам казалось донельзя забавным. Мы вставали друг напротив друга. Разыгрывали на спичках ведущего. Ведущий делал какое-нибудь движение, а ведомый его повторял, но так, чтобы это походило на отражение в зеркале, было максимально синхронно. Задачей было сделать так, чтобы отражение приобретало самостоятельность, чтобы оно в конечном итоге делало то, что было ему необходимым, а ведущий был вынужден к нему приспосабливаться. После второй недели работы у нас набралось около тридцати вариантов начала Книги. И возникла проблема. Ирис настаивала, чтобы был произведен выбор. Я понимал, что с одной стороны - выбора нет, а с другой - все варианты равноправны. (С третьей стороны за меня был Ахилл, я точно это знал.) Ирис. Я все понимаю. И то, что процесс намного важнее результата. И то, что выбирать безнравственно. Но выбирать нужно. Аякс. У тебя невроз. Что значит нужно?! Кому нужно?! Ирис. А как ты вообще представляешь себе нашу работу. В немыслимом размножении набросков? Аякс. Формула у меня есть. Ты ведь знаешь фразу, с которой начинаются все наши начала. Как только появится фраза достойная того, чтобы стать второй все проблемы уйдут сами. Но это должно случиться. Произойти. Мы не имеем права вмешаться в Книгу. Таким образом «нужность» вошла в конфликт с «правом», точнее с отсутствием права. Но вторая фраза нашлась. Нашлась неожиданно, как и подобает второй фразе. Все дело в том, что в этот день у меня были проблемы, навязанные одним моим товарищем, который непременно хотел, чтобы я поговорил с ним. Для него это была нетрезвая прихоть, для меня - два часа мучения, в котором можно позволить себе вдоволь поиздеваться над опьяненным рассудком, поизучать психические ходы и сделать несколько искренних вещей, например, с чувством произнести «Ты дурак!». Он ввалился в дом утром. Уже изрядно накаченный, с бутылью и килограммом помидор. Обсуждать его подсознательные гольфстримы мне не очень хотелось и я решил сыграть в игру. Я взял книгу (кажется, Стивена Кинга) и отвечал или говорил только цитируя первый попавшийся абзац, разумеется приближая его смысл к максимально к контексту. Ириска быстра приняла условия игры (она присоединилась к нам чуть позднее) и взяла другую книгу. Друг мой вскоре задремал и не мешал нам играть в это странное зеркало. Неожиданно, я взял (клянусь, эта был первый попавшийся предмет) что-то бумажное и написал «И его отражение лежало у ног». Ириска прочитав, закивала, сказала раза два или три «да» и пошла к компьютеру. Теперь у меня был ключ к Ахилловым записям. 11 Я не слишком люблю навешивание ярлыков, но где-то в глубине так или иначе делю всех художников на три группы. Конструктивисты, символисты и сенситивисты. Первые занимаются интеллектуальной игрой. Для них работа начинается идеей и ей же заканчивается. Я их очень не люблю, особенно за то, что они все время пытаются пересказать свои работы. Вторые работают иначе. Они иллюстраторы. Они пытаются свести мир к набору гармонирующих иероглифов. При этом одни уходят в формализм, а другие в романтизм, но так или иначе их творчество - это украшательство. Третьи мне наиболее симпатичны. Они перевариватели. Их занятие - создание отрыжки. Они наполняют мир своими переживаниями, которые им не удается перевести ни в образ, ни в идею. Их работы интересны, но только тогда, когда они наполнены энергией. Этот абзац может показаться вам весьма желчным. Только потому, что художников на деле много меньше. Единицы. Их можно перечислить. Но я не стану этого делать, зачем навязывать свое мнение. Если не желать вступать в полемику. К Ахиллу я отношусь с сомнением. Он для меня не понятен. Может потому, что я был слишком рядом. Иногда он мне казался конструктивистом в своей неистовой попытке разбавить анализом и замешать на формальной схеме. Иногда он виделся мне символистом. Ибо его занятие (выдумывание иероглифов) очень сильно походило на попытку перевода Мира с одного языка на другой, без желания что-либо сообщить. Иногда он исходил из ощущения. Из чутья. Но он не интересовался продуктом полупереварения, что сильно мешало его классифицированию. Так или иначе в каталоге, где я разместил его наброски, было пять мегабайт голого текста и эти мегабайты требовали к себе отношения. Кроме логики у меня не было иного оружия (до появления ключа). Логическая схема выглядела так: 1. Можно допустить, что эти наброски не связаны между собой и представляют хаотическое собрание слов. 2. Можно допустить, что существует схема, согласно которой можно привести все эти наброски к единому документу, который окажется Книгой. 3. Можно допустить, что существует еще другие варианты. Мы с Ириской выбрали поначалу вариант номер два. Ибо этот вариант предполагал игру и мучительный поиск схемы. Плана. Кроме того, я точно знал, что любимая мною рекурсия нашла свое убежище и в душе Ахилла, в этом мы были абсолютные братья. С появлением второй фразы я неожиданно понял, что Ахилл не писал Книги. Для этого он оказался слишком умен. В мучительных размышлениях, как я сейчас понимаю, он пришел к выводу (прозрачному и банальному), что Книгу нельзя написать. Единственно, что возможно - это оставить след, описать путешествие. Представьте себе, что вы занимаетесь египетскими пирамидами. Дать представление о пирамиде путем изложения ее геометрических пропорций или коллекцией проб минералов, из которых она состоит? Нет. Вы описываете свое впечатление о пирамиде. Вы создаете путеводитель (известно, что основные читатели путеводителей люди, которые не могут позволить себе путешествий). Ахилл, с его необыкновенным образным мышлением постарался оставить вешки, разметить дорогу к месту (знать его), где находится Книга. Описание которой будет всегда меньше и иначе Книги. Единственное, что он не смог найти - это формы. Он занимался содержанием в отсутствие формы. Поэтому не имел место результат, который (нам технологам это известно достоверно) есть соединение формы и содержания. Нам предстояло решить эту странную задачу: найти форму неизвестно чего и вместить в нее содержание, не имея привязок отдельных частей этого содержания. Вообщем, как в сказке - пойди туда не знаю куда, найди etc. - Давай рассуждать логически. (Это сказал я.) У нас есть наша верная помощница - дихотомия, которой мы всегда можем подвергнуть проблему. Два варианта. Может ли Это быть книгой? Твое подозрение. - Если бы это могло быть книгой, Ахилл, вероятнее всего пришел бы к этому результату и начал бы писать книгу. - Логично. Вербально ли Это? - Если бы это не было вербально, Ахилл не стал бы создавать кусочки текста, а лепил бы из теста пирожки, например. - Логично. - Что может быть и вербальным и не книгой? - Беседа. - Ахилл не был проповедником. Или все-таки был? Но так или иначе, он в качестве содержания искал слова, умерщвленные на бумаге. Словно травинки в гербарии. - Кукся, ты - гений. Родной брат своего брата. Мы должны создать словарь-гербарий. Но это будет не простой словарь, а непростой словарь. И мы принялись за работу. 12 Первое слово в нашем словаре оказалось «народовластием». Народовластие. Надо. Род. Ода. Нарост. Всласть. Надорвать. Ласты. Народовластие - нарост, дающий всласть, но надо ласты рвать. (Как можно пройти мимо того, что народовластие - это народ в ластах, предельно прозрачно. Позднее мы нашли еще базовые «ластовые» слова - сластолюбие и властолюбие.) Разумеется, мы очень скоро пришли к выводу, что такого слова как «народовластие» просто не существует. Тогда мы пошли по другому пути. Я написал программку, которая из Ахилловых набросков сделала коллекцию слов. Мы не сомневались, если и существуют слова, то они уже записаны Ахиллом. Этот путь также оказался тупиковым, поскольку словарь Ахилла был очень странным. Огромное количество слов, которые он употребил в жизни один только раз и очень небольшое, постоянно употребляемые, но в основном, служебные. Но так или иначе, открытие номер один состоялось: у Ахилла не было любимых слов. У меня есть любимые слова. Я очень люблю слово «влажный». У меня влажным может быть не только взгляд, но и предчувствие, и огонь. Слово «влажный» вообще является ключевым. Оно - сторож. Ибо с одной стороны у него - вкладывать, а с другой - влагать. Вкладывать, вклад, клад, лад, один словом - гармония. Влагать, вложить, логос, ложь. Влажный - это гармония логоса. Слово ожидание. День, рождение. Дождь, дождаться. (Третий смысл связан с объевреиванием.) Этот корень «ЖД» очень древний. Столько чудесных слов с ним связано. Человек, у которого нет любимого слова достоин всяческого уважения. Но так как отражение уже лежало у ног (Да здравствует звук «ЖЖЖЖЖ»!), приходилось искать пути. Первый раз за долгие годы путей было меньше, чем я того хотел. Фактически, существовал один единственный путь, но его необходимо было найти. Или (вариант), необходимо было сделать так, чтобы этот путь нашел нас. Эти два варианта были совершенно различны, но имели один результат, как так бывает я до сих пор не могу понять. 14 «За видимыми проблемами - рассвет. Шаг, и, отступая, иду прочь. Разводя немые руки. Полные сил и желания. Что. За невидимыми проблемами - свет. Гирлянда встречных фонарей мертвых ночных машин вместе с брызгами нелепого шуршащего прохладного сумасбродного снега. Шаг сделан. И первый мой попутчик - закон. Закон шага разрывающего ткань. Универсум. Сложный, непроизносимый символ. С претензией, с составом, препарированный и уложенный. Космос. Уже лучше. Но эта клоунская симметрия, эта рифмованная структура - игра. Именно Ткань. Именно Ткань. Один слог. Как взгляд, как первичность, как необратимость. Выстрел, шаг, впечатление, инсайд, удача. Ткань. Догадка. Прозрение. Мир дихотомии, презираемый, оплеванный - дал приют, и мне в нем не тесно. Между изобретением и открытием. Между существом и конструкцией. Между схемой и решением. Закон шага разрывающего ткань дает мне опору. Даже если эта опора не видима глазу. В шаге, разрывающем ткань много современного. Попытка и пустота. Инь и Ян, забыл, кто из них мужчина. Ткань - генератор. В ней генезис. Ткань времени. Ткань пространства. Когда-то было сказано «ткань и состав». Сегодня - ткань. И состав ткани. Сегодня - это время решений. Канатоходец Ницше - сегодня - жонглер. Паяц Гойи - сегодня - жонглер. Скоморох Тарковского - сегодня - жонглер. Но жонглирование сегодня, это не сверкающие шары, летающие по кольцу. Жонглирование сегодня - это облизывание и пожирание слов. И снов. И снова. И новая нива. Тысячи рук, соединенные коллективной попыткой и миллионы непроявленных существ-значений, содержащиеся в ткани, полные сока и жизненной силы, экспириенса. Влажные и неприрученные. В их жилах течет кислота и наш мир их обиталище. Жонглер сегодня - это НадСуперСверхЧеловек. Новый жрец. Скоро он будет спокоен и уверен в себе. Первые существа-значения уже выпущены на свободу. Они полны кислоты и созидания. Апокалипсис - их гимн, Армагеддон - дом, Геката - мать. Конструкция, создаваемая жонглером проста. И полна смыслом. И видит Бог, этот смысл уже ни принадлежит ни Ткани, ни Жрецу. Это становление соединительного смысла. Это реальность становления. И никогда после, и никогда ранее не есть так. Ибо лишенное протяженности становление определит границу. И мир будет поделен. И в этом делении будет умножение мира. Разве только свет далекой звезды, придя через миллиарды лет удивится, увидев нас такими, какие мы есть. Открытая вверх ладонь всегда была символом доверия.» 15 Я показал эту страничку Ириске. - Это - Ахилл? - спросила она. - Ахилл, - ответил я. - Несколько препарированный и прилизанный. - Это странный текст. Он одновременно зовет и к разрушению, и к созиданию, и к неподвижности. - Ирис, если ты хочешь , чтобы мы остались друзьями, воздержись от привычки пересказывания Текста своими словами, ты не в школе. Она фыркнула, как могла фыркнуть только она и ушла в комнату, которая уже стала ее. Этот переход от жизни вместе к жизни вдвоем произошел очень ненавязчиво и я даже не знал, как мне поступить. Но меня беспокоила конструкция «соединительный смысл». У Ахилла в наброске было так: «Они полны кислоты и созидания. Апокалипсис - их гимн, Армагеддон - дом, Геката - мать. Конструкция, создаваемая жонглером кипит смыслом. Этот смысл уже ни принадлежит ни Ткани, ни Жрецу. Это соединительный смысл. Разделяющий мир для того, чтобы мы могли Различать. Раз - Делить. Раз - Личать. Дело - Лицо. Деление - Личина. Клеточное деление - Личинка. Возникает жизнь. Облеченная в клеть.» Меня беспокоила эта конструкция. В ней было что-то из того Ахиллова монолога. В ней было что-то, что отличало его - неживущего, от меня - живого. За последнее время я так привык, что Ахилл с нами, что мне иногда казалось, что загремят ключи (они должны быть непременно огромными, в огромной связке) и откроется дверь. Но эта клоунская симметрия, эта рифмованная структура - игра. Как взгляд, как первичность, как необратимость. Выстрел, шаг, впечатление, инсайд, удача. Ткань. Дверь не откроется. В Царство Необратимости мы живем. Первые существа-значения уже выпущены на свободу. - Пойдем погуляем, - предложил я. Ириска милостиво согласилась. Город принял нас, как может принимать только Город. Молчаливый и прожорливый. Милый, но безучастный. Дома соединены улицами. Вещи соединены комнатой. Сколько я прожил дней. Более одиннадцати тысяч. Неужели этих одиннадцать тысяч дней соединены мной. Я шел с ней, мы о чем-то болтали, но мне ни как не давала покоя моя протяженность. Которая должна быть отрезком (рождение-смерть), но была чем-то иным. Не прямой. Не лучом. Не деревом. Не паутиной. Моя протяженность была чем-то иным. И я это твердо знал. 16 Случилось страшное. Именно на семнадцатой странице нашего повествования, хотя тринадцатая подошла бы для этого события намного более. Ко мне приходил давний Ирискин приятель, молча положил какую-то толстую книгу на стол, выпил предложенный кофе и удалился. В его поведении сквозила какая-то нарочитость. Как оказалось далее, Ирискин приятель принес новую реальность, Ирискин приятель принес «Маятник Фуко». Мы скисли. Умберто было мало того, что его имя сочеталось с названием моей любимой краски, он еще довольно внятно изложил то, чем мы занимались последнее время. Ирис. Что будем делать? Аякс. Отдыхать. Я сильно напился, хотя это была не моя реакция на события, поклялся, что «Маятник» станет последней книгой, которую я прочитал и ушел с головой в работу, благо пора была страдная. 17 Наверное, все могло этим закончиться, но наша история имеет свое продолжение. Была третья годовщина ухода Ахилла. Нас набилось в квартиру довольно много. Мы купили видеокамеру, она стала новой игрушкой, Ирис ходила кругами, всех снимала, требовала произнесения монологов в стиле «капсула времени». И я вспомнил, что много-много лет назад, дурачась, мы с Ахиллом в парке зарыли капсулу. Там был текст, который у нас не был занесен в машину. Ирис: «Ты с ума сошел. Во-первых, ты не сможешь собрать полностью все тексты, которые написал Ахилл. Во-вторых, он не Бог. Неужели ты думаешь, что там написано: «Аякс, вот уже три года как меня нет. Для того, чтобы собрать Книгу необходимо пользоваться следующим кодом…». В-третьих, мы не можем бросить гостей.» Третий довод был совершенно пустым, гости в нас, как всегда, не нуждались. Второй довод был риторическим. А первый я разрушил следующим силлогизмом: «Я не смогу собрать все тексты. Я смогу собрать только те тексты, которые смогу собрать. Значит, я могу попробовать сделать этот текст собранным.» Выглядели со стороны мы презабавно. Но Ириска взяла пакетик и делала вид, что собирает землю для цветов. (Я предложил ей это написать на спине, так она волновалась…) И капсулу нашли не с первого раза. Ахилл хотел, чтобы мы положили наши письма потомкам в жестяную коробочку из под конфет («если наткнутся, подумают, что клад…»), я настаивал на том, чтобы послания были запаянные в полиэтилен. Как я был прав. Наши странички отлично сохранились, даже не пожелтели. Три Ахилловых страницы были тщательно написаны, без помарок, я понял, что это «чистовик». «Дорогие потомки! Странно, но путь, который проделало это Послание, мало отличается от пути к Вам любой страницы книги, лежащей в библиотеке. Однако условия игры делают процесс создания текста увлекательным, ритуальным и наполненным смыслом. Я признаюсь сразу, мне нечего сказать Вам. Я бы мог попытаться описать наш сегодняшний мир. Или помечтать по поводу Вашего завтрашнего мира. Я не стану этого делать. Я хотел бы призвать Вас, но я не знаю к чему. Я хотел бы научить Вас, но научить нельзя. Я мог бы предостеречь Вас, но я не люблю заниматься бессмысленностями. Видимо, таков мой круг, я начал понимать Сократа. Есть нечто странное в процессе спекулятивного производства суждений. Нечто поверхностное, ускользающее. Но я ЗНАЮ. Я чувствую. Я не могу представить, что может быть иначе. И я начинаю рассуждать логически. Предположим, что то, что я Знаю есть. Тогда очень важно с этим считаться. Предположим Этого нет. Тогда моя попытка считаться с Этим просто обречена на неудачу. Как миллион других попыток, как попытка обрести Друга. Этой попытке я отдаю силы, натыкаясь на неудачу не менее. Существо моего отсутствия права заключается в такой степени ответственности, что позволить себе просто нельзя. Я облечен найти. А значит, необходимо искать. Обреченность. Именно этим словом я бы характеризовал эмоцию, стоящую за фразой: «Всякая мудрость, имеющая мужество идти дальше пределов собственного выживания…» Выживание мудрости. Одиночество, не граничащее ни с чем. Тотальное, лишенное собственного смысла. Рассуждая так, со стороны, невольно ищешь жалости. Саможалости. Но когда погружаешься в это состояние, приходишь в него, застываешь в нем, уже не думаешь об имени. Именно в таком состоянии понимаешь смысл. Проявляешь Смысл. Этого Послания как части Смысла. Я пишу не всем. Я пишу только Другим и Немногим. Только Другие и Немногие должны его читать. Поэтому, прошу в конце этого абзаца остановиться и спросить себя, кто я - Другой или Немногий?» (Первая страница закончилась. Я отложил листки.) Может попробовать поиграть и в эту игру? Могу ли я для Ахилла сделать такую малость, ответить на вопрос, кто я - Другой или Немногий. Я знаю, что каждый, кто читал бы этот текст, сделав разве лишь паузу, побежал бы глазами далее. Все мы - Другие и Немногие. И кто из нас Другее и Немногее, выбрать непросто. Но должно же быть отличие… Я передал листки Ириске. Она, перед этим наблюдая меня не менее, чем лечащий врач, молча взяла их и уткнулась, передав эстафету подсматривания мне. Быстро, очень быстро дошла до конца первой страницы, вернулась в начало, дошла до конца и взглянула на меня. Ирис. И что? Аякс. А ты? Ирис. Но ты ведь вкладываешь в Это смысл. Аякс. А ты? Ирис. Хочешь изобрести интерактивность до появления компьютера? Аякс. А ты? Ирис. Хорошо, возвращаемся домой. Пока не читаем. Там разберемся. В тот вечер разобраться нам не пришлось. Люди, почувствовав наше отсутствие, сформировали в себе полную безнаказанность, которая не закончилась нашим появлением. Утром следующего дня, мне пришлось на больную голову выслушать монолог Ирис. «У меня возникло ощущение потери цели. Сначала ты хотел обработать записи, чтобы издать книгу Ахилла. Потом появилась просто Книга. Потом оказалось, что эта Книга не может быть написана, может быть указан только маршрут, по которому можно двигаться для того, чтобы понять о Книге. Следующим шагом был отказ от слов, поскольку любое слово помешает этому пути. И что? Ты упрекал Ахилла, что тот писал содержания БЕЗ формы, а сам ищешь содержание ВНЕ этой формы.» «Очередное зеркало», - думалось мне. Этот монолог мог состояться три года назад, где все мы поменялись бы местами. На диване лежал бы Ахилл, вместо Ириски был бы я. Где ты была три года назад? Тебя ждала. Сидела у окна? Да. И глаза все проплакала, глядючи. А я все не шел. Нет. Но ты все-таки появился. Мне бывает так страшно, когда я думаю, что мы бы не встретились. Даже умная женщина не перестает ей быть. 18 Мы все слишком глубоко погрузили в смысл. Любое занятие следует продолжать только в том случае, если оно несет в себе гармонию. Поиск этой гармонии составляет суть. Чувство гармонии есть новое чувство осуществования. Диалог, описанные в предыдущей главке лишил меня соратника, подарив, наверное, любовь. В этом обмене было что-то противоестественное, как в жертвоприношении. Я с удивлением наблюдал за процессом преображения Ириски, которая найдя успокоение, начала трансформироваться; словно то, что было до этого, являлось некоторым предисловием к жизни. Так гусеничка становится бабочкой. Я простил ее, но уже никогда не предлагал прочитать те два оставшихся листа Послания Ахилла. Я снова остался один. 19 Это был прекрасный день. Ранняя весна. Еще зыбкая, но уже ласковая. Солнечный день. Без единого намека на облачность. Аякс звонил в дверь, долго, настойчиво, нетерпеливо, пока ему не открыли. Ириска буркнула что-то про занятость, наличие ключей и эксплуатацию человека человеком, Аякс ее не слушал, он сунул ей в руки пакет, в котором были сок, мороженое, какие-то конфеты и еще что-то. Сегодня праздник? Сегодня - будни. Таков было полное описание диалога, состоявшегося в тот день между Аяксом и Ирис. Ирис знала, что по пустякам Куксю (а в такие дни он был именно Кукся) лучше не тревожить бессмысленными расспросами: что? зачем? почему? Аякс бродил по скрипучему коридору, то закладывая руки за спину, демонстративно выкидывая ногу, делая шаг, то поднимая руки вверх, словно апеллируя к чему-то, что несомненно живет этажом выше. Со стороны это выглядело нелепо, но за ним никто не подсматривал, и, в условиях полного отсутствия зрителей, его экзальтированность не выглядела театральной. В ней не было наигранности. Ирис знала, (как объяснял ей он сам) что в такие минуты идет мучительный поиск Адекватности. Непременно с большой буквы, непременно, граничащей с полной Гармонией. Когда Ирис задумывалась о полной Гармонии, она представляла себе хозяйку Тома из мультиков «Том и Джери». Толстая негритянская женщина (почему негритянская?), которую никогда не показывали целиком в кадре, только корпус и руки. Это было очень стилистически грамотно, ведь когда происходят конфликты между котом и мышонком, очень странно видеть рядом с ними человека в его полном соматическом величии. «Обреченность мудрости, имеющей мужество идти дальше пределов собственного выживания. О-бреч-енность. Беречь. Берег. Обрести. Речь. Обретать. Обреченность - это что-то, что не дано, но является призом, приобретением, результатом. Он был обречен. Можно сказать по-другому - он приобрел. И возникает «брести». Бродяжничество. Путь. Между берегом. Вброд. И речь. И бережливость. Речь - это не простой набор слов. Это брод. В обреченности. И я берегу обреченность. Приобретая. Бреду. Эти слова рядом. Я достаю их из себя быстро. Даже Вивальди не может мне помешать. Хотя закрываю глаза, собираю руки и кладу в них лоб. Поза выражения обреченности. Эти слова рядом. Странно, как легко их извлекать. Как просто нанизывать бусы. Так современно звучит. Проникая. Пронизывая. Пронзая. Так много слов. Так много смысла. Кого я обманываю, когда пытаюсь разъять этот смысл. Наполнить его конструкциями. Только не себя. И в который раз звучит вопрос: «где он, этот смысл?» В тексте. Во мне. Между текстом и мной. Или я рождаюсь этим смыслом, одновременно с текстом. Сколько можно задавать один и тот же вопрос. Один раз? Помните реку, в которую нельзя войти дважды? Это уже второй вопрос. Еще одно. Брешь. «Ч» и «Ш» очень рядом. «Што» и «Что». Брешешь и речь. Пробивая брешь обреченности. Брод и брешь. Неужели только «БР» остается тем незыблемым, чем нельзя пренебречь. Ага! Пренебрежение. Небрежность. Если есть бережность, значит есть и небрежность, пренебрежение. Обреченность как обретение и пренебрежение как брод. А сколько там их еще этих связей? А вот «брать»? Имеет ли оно место с нашим брожением? Бродить. Брага. Бражничество и бродяжничество. Их связывает наш оберег. Не хочется заканчивать такой странной и неуместной тематикой. Поэтому я поставлю жирную точку. Брать. Брат. Брань. Броня. Оборонять. И боронить. Бор. Смешно. Брешь в броне, оберегая, обретаю обреченность. Нареченный вброд бродяга, берегу ее небрежно. Берег броский. Берег бранный. Берег брошенный.» Ирис тайком прочитала вторую страничку из Ахиллового Послания. (Страничка была слабой. Так всегда бывает, когда пытаешься добиться многого.) Она догадывалась, что этим дает старт чему-то новому, что несомненно будет немного неискренним, что может перерасти в Ложь, что может помешать, что является маленьким предательством, но она не смогла. Она ясно поняла, что этого испытания не выдержит, точнее будет сказать - она ясно поняла, что сходит с дистанции и зафиксировала этот момент чтением странички. Но от чтения третьей удержалась. Вернее, когда коснулась глазами первой строки второй страницы, стало ясно, что сам текст Послания уже не имеет смысла, намного важнее было решить читать/нечитать. Игра Аякса в чтение Послания Ирис очень понравилась. Аякс изобрел еще одну Книгу (которую по счету), которую не нужно читать, для того чтобы понимать ее смысл. Может это было его ответом Маятнику и Ахиллу, может быть таким образом он все-таки хватался за ускользающую из-под пальцев Тайну. Потрясающим было то, что он сумел избежать формальности, когда доводом становится не ощущение, а протокол, договоренность, навязанный ритуал. Но при этом, что-то сломалось. Было и жаль, и радостно. Ко второй странице Ирис придумала еще слово «решето», которое пропустил Ахилл, и время от времени мучила себя вопросом, специально или нет. Но никто никогда уже не сможет дать ответ на этот простой вопрос. Может быть поэтому в голове вертелись «толочь в ступе», «как с гуся вода». Какое-то звено было безвозвратно утеряно. Все попытки возвратиться были обречены на провал. При этом, менялось практически все. Эти два процесса, приложенные в одну точку, совмещенные в одном месте, производили странный эффект. 20 «Сегодня я с удивительной отчетливостью осознал, что у меня была только одна возлюбленная - смерть. Я благодарен смерти за то наслаждение, которое испытывал за время наших встреч. Я помню этот взгляд, полный желания. Я помню эти жадные руки, ускользающие под ласками движения тела. Я помню похмелье утра, когда разбитый и усталый я уходил в новый день жизни. Жизнь не любила меня. Меня любила смерть. Игры смерти, магический ритуал неудовлетворенной страсти приносили мне столько счастья, сколько я никогда не получал днем, в пресном и поверхностном совершении существования. Жажда, голод невозможности соединиться с любимой, вызывало ощущение такого сладкого страдания, что я задыхался. Жемчужная испарина умирающей, но вечной, воли моей блестела шероховатыми стенами нашего одиночества. Я мог войти в этот поток, стирающий границы плоти и воздуха, словно мраморными нисходящими ступенями. Полным вдохом выпить напиток страсти, удивления и восхищения Я мог поймать тело ее в свои пальцы и чувствовать как выныривает эта бесконечно сильная губящая энергия. Я вбирал всю свою волю в зрачок, и тело смерти ослабевало и шептало мне: господин… И в этой слабости было еще больше желания соединиться в один немыслимый выдох лопавшихся связок и мутной струйки самосознания, сочившейся сквозь мутные поры кожи. Тогда я падал лицом вниз. И зрение растворялось во мне. И чьи-то холодные, бьющие радостным током руки ложились на мои плечи. И скользили по телу. И я понимал, что еще одна секунда и у меня просто не останется возможности выйти на круг. Но мы любили друг друга. И смерть испуганно отстранялась, шла в угол и закрывала своими точеными белого жемчуга руками лицо и грудь. Я включал свет и подходил к ней. Прости, говорили наши глаза. Прости, я чуть не умер. Прости, я чуть не убила тебя. И новый поцелуй покрывал завесой рассудок и долг. Рассудок жизни и долг смерти. Прости меня, родная, когда-нибудь я не смогу удержаться здесь, и ты навсегда потеряешь меня. Не ищи меня среди других. Я не желаю им зла. Я слишком ревнив для этого.» Я никогда не задумывался, что была смерть Ахилла для самого Ахилла. Случай так хорошо вписывался в мое представление о нем, что я ни разу не предположил убийства или самоубийства. И в этом была какая-то натянутость. Случайности не бывает, говорило мне мое Представление О Жизни. Но принятая классификация исходов была слишком узка для того, чтобы в ней можно было разместить уход Ахилла от нас. В этом уходе было так много естественного, так мало несчастного, словно он просто переехал жить в другой город. С той лишь разницей, что Город был только один. Мое желание создать посмертную книгу Ахилла не являлось желанием вернуть его, ни желанием увековечить (безумное слово) память о нем, не было продиктовано стремлением преодолевать возникшую пустоту. Я не мог, не мог, не мог смириться с мыслью, что его жизнь настолько спонтанной. Я боролся только с собой. Та легкость, с которой он оставил нас, та беспечность, с которой он относился к овеществлению времени, та элегантность, с которой он распространял хаос вокруг себя, - все это подрывало мой главный стержень - уверенность в том, что жизнь - осмысленный процесс, направленный на достижение результата. Именно в этом было дело. Мне стало ужасно стыдно. Настолько, что возникло желание стереть все набранные файлы Ахилловых набросков. Но и в этом было что-то неправильное. Во-первых, большую их часть занесла Ириска, во-вторых эти тексты принадлежали моему брату. Ощущение безвыходности не покидало меня в течении двух недель. 21 Первый город был соткан из мрамора. И его отражение лежало у ног. В языке двести тысяч слов. Десять тысяч мы используем время от времени и только тысяча составляет девяносто процентов всех слов, используемых нами вообще. В этом месте нашей непростой повести (*) было использовано 8971 слов. Можно разобрать повесть и сложить ее иначе. И это будет другая повесть. Она может быть талантлива или не очень. Если эта повесть не станет трудом графомана, где он вслед за автором аккуратно выведет каждый знак, то она непременно станет отличаться от любой другой, даже, если в мире существует всего четыре сюжета, или (что более вероятно) только один. И снился мне в эту ночь сон. Залитая асфальтом равнина. Чистая как колено. Насколько хватало глаза - ни кустика, ни былинки. Солнце в зените. Испарения от черной непроницаемой пленки вверх. Ровно по середине (здесь везде была середина) дорога. Прямая. И граница между дорогой и асфальтовым полем была условна, границы не существовало, я сам ее определил: здесь. Дорогу пополам разрезала разделительная полоса. Белые тире. Я старался не нарушать правил и шел с левой стороны. Было жарко, но я не испытывал неудобств - такова была природа этого сна. Я знал только одно - мне нужно идти. Дальше, дальше, дальше. Одиночество не смущало меня, мне и в голову не могло придти, что кто-то мог со мной разделить этот путь. Я мог бы наблюдать окрестность, но окрестности не было. Даже тень была слишком мала, слишком под подошвой ботинок, чтобы следить за ней. Я никуда не торопился, но старался придерживаться четкого ритма, словно мне было куда спешить. Тридцать один миллион шагов - круг. В круге - триста шестьдесят пять дней. Алексей Егоров Екатеринбург 1998 |
||