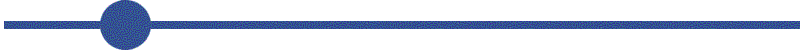 |
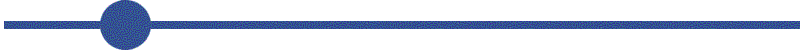 |
|
01. Стук колес и больше ничего. Стук колес и редкое присутствие фонарей тусклым зайцем на шторе. Стук колес. Вальс вагон танцует он закружился кругом ночи. Спят соседи по купе. Очень-очень. Только редким фонарем чай в стакане освещен. Туки-туки. Цок, цок, цок. Последнее цоканье отскочило от каблучка, прислушалось и тихонечко улеглось на асфальт, обнаружив, что Вероника не собирается двигаться дальше. Пришла. Именно так и подумала девушка. Она посмотрела на часы, смутное представление о дамской гордости говорило ей, что порядочная девушка должна опаздывать ко встрече не менее, чем на четверть часа и уж, конечно же, не приходить первой ни в коем случае. Но сомнений не было никаких. Это было условленное место, это было условленное время. Не было сомнений в том, что он заставлял себя ждать. Не буду расстраиваться. Отец часто говаривал: Я часто раздваиваюсь, оттого и расстраиваюсь. Он очень веселый человек - вероникин отец, но после развода с матерью в его улыбке появился виноватый оттенок. Интересно, будет ли виноватой улыбка у того, кто опаздывает сейчас ко времени и месту встречи. Кто придет и скажет: Вероника, я опоздал. И беспомощно разведет руками. И оттого станет огромным, как вечернее небо. А потом недоуменно сдвинет плечи и опустит руки (куда их деть, когда они не нужны) и станет узким, словно шпиль старого вокзала. Ну, опоздал. Бежал, бежал, бежал, бежал, торопился. Когда торопишься, всегда опаздываешь. Не дуйся! (И спросит: Ты хорошая девочка?) Ах, туки-туки, поезд уходит, пойдем, и виноватость снимет рукой какого-то огромного и безразличного божества по имени: Дела, прости. И он пойдет к поезду чуть впереди, по обыкновению разговаривая через плечо, и на его спине крупными буквами будет написана озабоченность. А сосчитаю-ка я колонны, подумала девушка, раньше эта колонна была пятой с того конца и третьей с этого. Ничего не изменилось и сейчас, а сколько их всего, этого Вероника не знала, да и знать ей это было не нужно. Не меньше пяти, во всяком случае. Эхом из-под сводов раздался первый колокол. Никогда бы не подумала, что здесь такое эхо. Нет, это я виновата, не надо было так рано приходить, ох, не надо было. Ждать уже нельзя. Если он сейчас пришел, то не пойдет ни к пятой колонне, ни к третьей колонне, а пойдет прямо на перрон бесконечными подземными переходами. Переходами от одних направлений к другим и обратно. И будет стоять там на каком-то пути, куда и откуда ведут мелькающие указатели. На каком-то там пути, вероятно, дует ветер, и солнце стоит низко-низко. Холодное бледное солнце. Как протезами, поезд скрипит в нетерпенье своими суставами. Вот и второй колокол. Но надо пройти по перекидному мосту, пересечь небольшую площадку и пройти сколько-то там вагонов, но уже видно, видно издали, что его нет и возле вагона. Ну, ничего. Обидно, конечно, но не смертельно. Цветы под полой плаща в целлофане. Надо пригладить волосы в зеркале вагонного стекла. Занавески окна шевелились от ветра, а трава на перроне прорастала сквозь щели, пролетела ворона полтора километра, а солнечные лучи практически не грели сквозь пелену дождя. Слепого дождя, от которого не укрыться. Да и укрываться, по совести говоря, от него не хотелось, да и негде было укрываться. Можно, конечно, зайти в вагон, да только ступени высоко, а каблук тонкий. Вероникой это было уже неоднократно испытано: каблук тонкий, зонтик дырявый (даже если новый), ветер колючий. Это не то чтобы пессимизм - скорее, здравый взгляд на вещи. Можно пройти вдоль вагонов последний раз. Станционный колокол отклокал все свои прощальные звонки. Из под колес раздалось шипение. Но есть еще минутка-минуточка. И Вероника это знает. Я же вижу, что она знает такие вещи. Что-то надо сделать с цветами, которые шевелятся за пазухой. Хотя бы достать на волю. А то угреются и уснут. Вы видели спящие цветы? Он не придет, он не придет, он не придет, он не придет: вышагивает Вероника по перрону. Она ведет себя так, будто снимается фильм каким-то известным неореалистом: внезапно смотрит вдаль, в никуда, чуть танцует, кружится и считает ворон. Кто сказал, что считать ворон занятие предосудительное? Вы? Человеку не до интервью, он опаздывает на поезд, он совсем не похож на него, опаздывающего на поезд. Он бы опаздывал на поезд совсем не так. Как-то по особому гордо, стремительно, широко отпечатывая шаг и совсем не размахивая руками. Нужно идти. Перед цветами жутко неловко. Не везти же их спящих домой. Представьте себе: вы уснули, просыпаетесь, - и дома! Сколько разочарования! Как было бы здорово, если просыпаться каждый раз в новом месте. Вероника! Это ветер шумит и играет словами. Но самое странное, что почти нет никакого беспокойства: почему не пришел, что случилось, почему не предупредил, что делать дальше. Правая гвоздичка шевельнулась и - показалось или нет? - зевнула. Сладко-Сладко. Миленькие мои. Ну сейчас, сейчас я вас подарю. Подарите их мне. Вам? Конечно, я давно мечтал об этом. Вы мечтали? Все мечтают. И во снах своих летают. Вы летаете во снах? Я почти сто раз в неделю. С четверга на понедельник. Нет, он и в самом деле милый такой. Высунулся из вагона. Смотрит на меня. Скрывает, что смотрит. Даже не смотрит - разглядывает. Вероника! А меня Вероникой зовут. И куда Вас зовут Вероникой? И как признаться, что в жизни бывает всякое. И ожидания, и огорчения, а не только пряники с печеньем. Подхожу. Смотрит в глаза. Не мигая. Глаза пронзительные и глубокие. Видимо, боится, что обидят. Нет, он совсем не знакомый. И странный. Не получилось. Начнем все сначала. И я разворачиваюсь, отхожу на расстояние пяти с половиной шагов. (Эта половина на всякий случай, мало ли что). И делаю шаг, приставляю ногу. Вероника! Он совсем не страшный. Ну, небритый. Смотрит уже покровительственно (или покровительно, как правильно?). Еще шаг. Гвоздики за пазухой хрустят довольно истерически. Вероника! А, собственно, почему бы и нет? Можно расценивать это даже как маленькое приключение. Еще шаг. Долго он будет так смотреть, не мигая? Ворона пролетела и ага. Еще шаг. Расстояние вытянутой руки. Надо решаться. - Это вам. - Спасибо. Ну вот и все, а сколько было переживаний. И совсем не страшно. Поезд тронулся. Мягко-мягко заскользил по стальным полозьям. Девушка дрогнула, мне показалось, что она хочет помахать мне рукой, но в самый последний момент застыдилась своего порыва и отругала руку: что же ты меня подводишь, забияка. Почему забияка? Вероника! И мне достались эти цветы. Розовый язычок одного из бутонов вытянулся. Поезд тронулся. Впрочем, поезд тронулся значительно раньше, но я не мог этого заметить. Цветы пахли цветами. Я почему-то решил, что цветы были гвоздиками. Сам не знаю почему. Гвоздики я не люблю. Гвоздики не пахнут. А если пахнут, то отвратительно. Гвоздики у меня ассоциируются с самыми разными вещами, не слишком приятными и не романтичными. Эти гвоздики были чудесные. Бархатистые. Прекрасного аромата, очень добрые и нежные. Поезд тронулся и мягко-мягко заскользил по рельсам. По стальным полозьям. Девушка дрогнула, мне показалось, что она хочет помахать мне вслед. Если бы я покупал цветы любимому, я не стал бы покупать гвоздики. Гвоздики холодные. Как эти, от которых стекло тамбура покрылось тонкой пленкой изморози. И я перестал видеть Веронику. И я собираю все тепло своего тела, а может души (что банальнее?), в дыхание - создаю две маленькие линзы. Одну под другой, чтобы не было похоже на очки, хотя это не так важно, как могло показаться вначале. Или сначала. Теперь я отчетливо вижу, что дрогнула не сама девушка, но только ее плечико в нарядном ситцевом платье, прикрытое от дождя плащом. Удивительного красного цвета. (Замечу ради справедливости, что не всякой девушке красный цвет к лицу, но не воспринимай это как комплимент, Вероника, это простая констатация). Поезд стремительно набирает ход. Рельсы звучат на удивление ритмично. Туки-туки. Веро-ника. Перрон пуст, пуст и печален. Перрон пуст, печален и полон негодования. Закрываю окно занавеской, так это отвратительно. Твои попытки остановить перрон тщетны, и фотография, соскользнув с глянца окна, летит, подхваченная ветром, и окунается в сугроб, перевертываясь неоднократно, и сразу же исчезает, сменяясь новым кадром. Вероника. Кто-то толкает меня в руку, чтобы уютнее пронести свой багаж, я отвлекаюсь, и когда льну к окну, там только поле. Вечернее поле, ржавое от заката. И я вхожу в свое купе, и на крючок свой плащ кидаю, газету достаю и чаю жду. Уже почти не чая чаю. - Новелла о несчастном тролле, - говорит сосед по купе.
Если бы я был киносценаристом, я сказал бы, что в этом месте необходима перебивка. И эта перебивка состоялась. Я еще был в своих видениях Вероники, но уже разглядывал странного человечка, которого при известных обстоятельствах самого можно было бы принять за тролля. Он был старого неопределенного возраста, очень небольшого (очень) роста, с живой мимикой и живыми глазами, которые (как это всегда бывает) жили своей жизнью, и, собственно, только они говорили: все это не слишком серьезно. Я следил за его губами, мне показалось, что он говорил нечто увлекательное. Видимо, сюжет был наполнен страстями - я не слушал его. Что-то во мне отзывалось, что-то настраивало на ученический лад. Словно листаешь энциклопедию, где собрано веками копившееся знание, такое условное, пахнущее нафталином и долгими ритуальными заседаниями. Но вместе с этим за каждой строкой была видна страсть. Погибшие экспедиции. Рискованные эксперименты. И утомительная классификационная работа. Где каждый белый лист испещряется мелким нервным почерком Ученого, в мантии, с буклями, с неестественно огромным пером в руке. 02. Энциклопедия поражала воображение. Она походила на долгий летний вечер, проведенный у окна в сад. Летний вечер затухал плавно, как затухали в возбужденной голове образы и тени с узких столбцов огромных красивых страниц. Что-то в них было знакомо. На букву "С" помещалась статья "Сад". Вначале шло описание плодовых садов с видами деревьев и способами посадки и ухода. Совсем рядом с окном росла яблоня, а чуть подальше - три дерева вишни, будто срисованные с цветной вкладки. Затем описывались сады регулярные - с аллеями, куртинами, купами, газонами, беседками. Что-то из этого перечня находилось перед глазами до наступления глубоких сумерек: кленовая аллея, например. (Я не знал, что эти деревья клены, они были далеко от окна и я не мог разглядеть их листьев, но мне казалось, что эта аллея - кленовая.) Метрах в пятидесяти от окна тек явно декоративный ручей с явно декоративным мостиком и двумя скульптурами явно женского пола. Новый день приносил огорчения. Все меньше времени можно было читать. Солнце садилось раньше и раньше. Пользоваться искусственным освещением не хотелось. Я старался ложиться спать сообразно течению сумерек, тогда отход ко сну происходил мирно, вызывая неясные образы чего-то мягкого и теплого. Перед сном я выпивал чашку не слишком горячего какао. Все двери в доме открывались легко и не требовали смазки. Лишь одну из них - в библиотеку - приходилось держать постоянно открытой из-за того, что когда-то давно у ней сломалась ручка-защелка. Под нее была подложена толстая старинная книга кулинарных рецептов. Мне никогда не удавалось осмотреть весь дом до конца. Я и цели такой перед собой не ставил. Но вдруг от сквозняка распахивалась не замечаемая много недель дверь и за ней оказывался чудесный будуар с вишневой бархатной мебелью, или столовая, или кабинет. Много времени я провел на кухне, которую обнаружил во время отлета птиц. Я сидел при синем свете газового рожка и размышлял о том, какая неведомая сила манит их за горизонт. Однажды в кухне я обнаружил люк, лестницу и обширный подвал с бочками столетнего вина. Это были настоящие дубовые бочки. Много раз я видел их на иллюстрациях к классическим романам, но не думал, что мне повезет столкнуться с ними нос к носу. Я трогал их, самая пыль казалась необыкновенно романтичной, связанной с трагическими судьбами инфант и их верных некоей изощренной верностью возлюбленных. Я видел Веронику в слезах. Ее глаза пылали, она была прекрасной в горе, смешанным с негодованием. Потом внезапно выпал снег, окно в сад затянуло по краям изморозью, оно стало похожим на узорную раму старинной гравюры. А изображение за окном, тонко выдерживая стиль, стало черно-белым, с резкими границами, без полутеней, безжизненным и холодным.
- Да вы совсем не слушаете меня! - прозвучало скорее с некоторым сомнением, чем с сожалением или возмущенно. - Ну что вы, что вы, - я поспешил разуверить старичка в моей неискренности. - И самое удивительное здесь то... Старичок, как мне показалось (с уверенностью сказать не могу), употреблял слово "удивительно" почти в каждой фразе. Я завидовал ему. Я чувствовал, что он научился радоваться. Он умеет радоваться. Он радуется. Мне невольно, совсем не злорадствуя, захотелось представить такую ситуацию, в которой этот человек мог быть огорчен. И мне захотелось плакать. Безотчетно. Просто потому, что какая-то липкая дрянь, сладкая-сладкая, не давала дышать. Я был маленький, беззащитный в этом огромном вагоне, в поезде, который мчался бог знает с какой скоростью прочь. В другой город. В другую жизнь. В мою жизнь. - Пойду покурю, - произнес я со вздохом. - Не мучайте себя. Поверьте старику, стоит только дать поселиться демону сожаления в своей душе, как он начнет ей питаться. Это его пища - душа. - А как выглядит демон сожаления? - Похож на серебряную змейку.
Тамбур был настолько уныл, что курить в нем не хотелось. Но волевой человек - это тот, кто идет наперекор желаниям, и я закуриваю, неглубоко затягиваясь и без удовольствия. Потерянность, которая пришла вместе с демоном сожаления, смешалась с острой головной болью. Если дела пойдут так и дальше, подумал я, от меня совсем ничего не останется. В окне по-прежнему что-то проплывало. Окно по-прежнему ограничивало поезд, не давая ему прорваться в мир. Был ли это мир людей, я не знаю. Не задумывался над этим. Мне всегда казалось, что это так просто. Но прошло одно лишь мгновение, и мне представляется, что нас всех нарочно заманили в этот состав, словно в клеть, чтобы (не дай бог) мы не растворились в мире города, неподвижном, застывшем, как отпечаток последней картинки в момент, когда дрогнул рельс и таинственный в своем назначении стюард закрыл дверь. Будет станция, и мы попытаемся вырваться наружу. Мы вывалим на перрон и, улыбаясь, будем смотреть друг на друга: свободны мы или нет? И нам покажется, что свободны, ведь никто не станет нас удерживать. Но свободны ли мы, если настанет третий звонок, и каждый из нас побредет в клеть. И в этой добровольности будет так много осознанного обречения. Так я думал, а кто-то думал иначе. Некто не думал вовсе, он спал. Те двое играют в го. Тот читает. Там ведут беседу. Никто не молится. Кое-кто смотрит в окно. Если бы я был замечательным ученым, я бы непременно открыл закон природы. Всегда забавно наблюдать как относятся люди к малораспространенным, романтическим профессиям, или знаменитостям. Если бы я сообщил, что я, например, часовщик, все наперебой стали бы рассказывать о своих встречах со старыми (это непременно - со старыми) часами, какие раньше были мелодичные звоны. Или: а вот мои опаздывают, представляете, отдавал их семь раз в ремонт, а они продолжают опаздывать. Если я патологоанатом, это же не означает, что разговор должен вертеться вокруг трупов. 03. Моя мечта - (все часовщики мечтают одинаково) - собрать самые точные башенные часы, которые шли бы с точностью плюс-минус одна секунда в тысячелетие. Они были бы установлены на главной площади какого-нибудь старого маленького городка. Я бы сумел их вписать в средневековую архитектуру. Их бой катился бы по отполированным подошвами булыжникам, чьи тела разогреты кострами инквизиции, ударялся бы в красноватые стены зданий, и всякий поворачивал свою голову на звук. - Ваше внимание привлекли башенные часы? - Да. - Ну что же. Это одна из самых больших достопримечательностей нашего города. К сожалению, экскурсоводы не обращают на них внимания. Да и турист больше желает увидеть застенки Торквемады, чем по-настоящему окунуться в романтику древностей. Вы с группой или один? - Я один. Совершенно один. И оказался здесь совершенно случайно. - Тогда я вам все покажу и расскажу. У вас есть полчаса? У меня было четыре по полчаса и мы отправились гулять с этим забавным человечком, который так навязчиво предложил свое общество. Впоследствии мне не пришлось об этом жалеть. Я не стану описывать историю этого городка; если вы окажетесь в нем, увидите все сами, но круг замкнулся, и мы вновь оказались перед уже знакомой башней. - Эти часы собрал Великий Мастер. Он стал известен в княжестве и за его пределами, когда ему едва минуло восемь лет. В двенадцать он уже руководил строительством водопровода, который мы видели. Это был механик от бога. Со временем он стал так богат и почитаем, что власть его соперничала с княжеской. Он, наверное, мог совсем отойти от дел - у него были мастерские, приносившие огромный доход, но одна страсть по-настоящему владела им. Его обуревала гордыня. Он хотел построить самые точные во вселенной часы. Часы, ход которых был бы точнее вращения Земли, колебаний атома в узле, периода полураспада радиоактивных элементов. (Разумеется, про это он еще не знал). Говорят, однажды в полночь он вызвал самого Дьявола и заключил с ним пари на свою вечную душу. По условиям пари часы, которые он установит на башне главной площади, должны за четыреста лет уйти вперед или отстать не более чем на одну стосорокамилионную секунды. Более того, часы должны были иметь автоматический подзавод. Они ударили по рукам и после постройки часов Дьявол погрузил часовщика в сон. Пари должно было закончиться в полночь на 13 сентября 1902 года. Господи, вам же пора на вокзал! Я посмотрел на часы и понял, что мой Экскурсовод прав. И мы помчались. Я сердечно поблагодарил моего нового знакомца, пообещал приехать еще, мы обменялись адресами. - Чем же закончилась история с часами? Вы не дорассказали. - А, с часами... Вы обратили внимание на трещину поперек башни? Это от толчка. Наш город стоит на базальтовой плите и в нем никогда не бывало землетрясений. Но одно все же случилось. Часы остановились. Поезд тронулся. - Когда, когда они остановились? Он был уже далеко. Но в его глазах, как мне показалось, светилась улыбка.
Эта история с часовщиком взволновала мне душу, не иначе. то-то свербело внутри. Что-то говорило: не так все спокойно. вами так никогда не бывало - вы помните, что должны что-то помнить, но никак не можете этого вспомнить? У меня было именно такое ощущение. В далекой юности я любил делать себе маленькие подарки, о которых сразу же забывал. Но оставалось ощущение светлого и радостного. И поздно вечером я садился на диван и думал: что же это внутри, которое требует выхода? И я вспоминал о своем подарке. Это могла быть даже простая плитка шоколада, который я ужасно люблю. Вот и сейчас я думал, что же там просится, словно бездомный котенок. Я побродил по вагону. Я нарисовал фломастером табличку: "Хочу с Вами познакомиться" и дефилировал из купе в купе. Люди попадались разные, все больше приветливые. Одно купе было пустым. Я бы сразу же вышел из него, но на диване лежала книга, и я понял, что хочу читать. Мое разочарование было огромным - это был учебник географии. Я очень люблю адаптированные учебники истории, где великолепные иллюстрации, где записаны движения народов. Рождение и гибель цивилизаций. Но это был учебник географии, а так как читать в этом купе больше нечего, то я открыл свою любимую главу: географические открытия, и на несколько минут освежил в памяти "кругосветное путешествие" Фернандо Ортеги. 04. Страница начиналась с фразы, выделенной жутко жирным шрифтом (безвкусица - прошла мысль). ЗАУЧИ ДАТЫ : 1616 - 1621 гг. ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕРНАНДО ОРТЕГИ Как вы уже знаете, древних философов и естествоиспытателей волновал вопрос о форме и строении Земного диска. Очень многие, в том числе и крупнейшие из ученых, высказывали мнение, что Земля - шар. Среди них можно назвать и величайшего мыслителя древности - Аристотеля. Позднее, в средние века, многие одержимые этой идей пали жертвой инквизиции, которая отстаивала свои взгляды жестокими способами - жгла своих противников на костре. Мы не станем сейчас упрекать этих людей за их заблуждения, ибо наука прокладывает свой путь среди многочисленных гипотез, взаимно опровергающих друг друга, среди ошибок, гениальных догадок и великих открытий. Но факт остается фактом: до путешествия Ортеги вопрос о форме Земли был открытым. Косвенные данные астрономических наблюдений не могли поставить точку в споре: Шар или Диск. Нам в ХХ веке может показаться бессмысленным сам спор, настолько мы привыкли к существующему положению вещей. Но попробуйте представить себе средневекового ученого, судьбу тех людей, отсутствие технических средств, и вы поймете, как тяжело Истина прокладывала свой путь. Две каравеллы адмирала Фернандо Ортеги, португальского моряка на службе Венецианской Республике, прошли Геркулесовы Столбы 12 мая 1616 года. Они назывались "Прима" и "Секунда". Шестьдесят два человека экипажа, капитан "Секунды" - венецианец Джакомо Пуччи и "Примы" - крещенный мавр Отелло (этот типаж Шекспир использовал впоследствии в одноименной пьесе), одиннадцать офицеров и адмирал Ортега, который находился на первом корабле. Имена лишь нескольких из них сохранила несправедливая Клио. Шесть месяцев и четырнадцать дней корабли шли из Европы до ближайшей земли (впоследствии испанцы назвали ее Пуэрто-Рико). Штормы и голод, страшная нехватка пресной воды и два жестоко подавленных матросских бунта - только это было в активе путешественников, когда те подошли к материку в районе Панамского перешейка и нашли пролив, известный нам как Фернандов. По предположению Ортеги, который, как ни парадоксально, был приверженцем идеи шарообразности Земли, после прохождения пролива экспедиция должна была попасть из Атлантического океана в Тихий и двигаясь на запад достичь со временем побережья Азии. Реальность оказалась сложнее. Третий бунт привел к тому, что "Секунда" повернула назад, и о судьбе ее ничего не известно. Потом случилась эпидемия (видимо, тропической малярии), и из тридцати четырех членов экипажа "Примы" в живых осталось лишь шестнадцать. Ортега решил несмотря ни на что продолжать путь. И судьба, казалось, смилостивилась над упорными искателями приключений. Прекрасная погода, отсутствие штормов, обилие мясной пищи и фруктов. Но уже на выходе из пролива началось необычное. Густейший туман, плотность которого сравнима с молочным киселем, (по выражению из бортового журнала), бьющие в совершенно ясном небе молнии, полное отсутствие рыбы и странный ровный восточный ветер. "Мы плывем прямо в ад". Это характерная запись в журнале. "Небо наполнено странным звуком. Молнии бьют очень низко, словно небо опустилось к земле. Еще несколько дней и мы не сможем повернуть, ветер гонит нас, как пастух своих овец". Шум усиливался час за часом. Ортега собрал экипаж, отслужили мессу, простились друг с другом. Все понимали, что через день или два, может раньше, они погибнут. Спасли моряков Крайние Рифы. (Надо сказать, что историческое название Крайние Рифы не соответствуют вулканической природе этих скалистых образований). Экипажу удалось подойти близко к ним, бросить якорь и не разбить судно. Тогда никто из них не мог знать, что течения и ветры в той области Земного диска в зависимости от смены времени года (а фактически от взаимного расположения Земли, Солнца и Луны) приобретают противоположные направления. Началось долгое ожидание. К счастью для команды, Ортега мудро руководил экспедицией. Пища с самого начала делилась с учетом годового пребывания, и голода не было. На Рифах оказались источники питьевой воды, а экипаж для сохранения рассудка и бодрости проводил исследования островов. Очень странно, но люди верили, что они смогут вернуться. И спустя два месяца ветер стих, а потом сменился на западный, и каравелла ушла на восток. В 1620 году они были у берегов Африки, где их подобрал европейский купеческий караван. Как ни странно, экспедиция Фернандо Ортеги с научной точки зрения ничего не добавила в разрешение вопроса о форме Земли. Но публикация путевых заметок произвела на современников такое сильное впечатление, что этот вопрос уже не обсуждался с тех пор. Ну а сегодня, благодаря следующим экспедициям к Краю Земли, космическим и геофизическим исследованиям, мы хорошо знаем и строение Земного диска, и физическую природу его Края. И отдаем должное мужеству и отваге Фернандо Ортеги, человека, который не испугался самого страшного - неизвестности.
Я бросил учебник. Мне вновь стало грустно. Им было хорошо в их семнадцатом веке. У них были загадки, открытия. А со мной сейчас нет даже Вероники. Интересно, подвиг Ортеги был во имя женщины? Или он, напротив, был брошен какой-нибудь капризницей? И зачем он тратил четыре года своей жизни и самую жизнь ради ответа на такой простой вопрос?
Никто не видел, как я тайком читал чужую книгу. В свое купе я постарался пройти незаметно. 05. Я еще не успел уйти из купе, как начались туннели. Это оказалось как игра: туннели шли один за другим и я загадывал, через сколько стуков (колес, сердца) закончится очередной. И еще загадывал: какая картинка случится при выходе. Хотя это было излишне - пейзаж за окном не менялся. И мне приходилось домысливать то, чего не хватало для глаз. Вот отвесная стена, вот пропасть, вот необъятный каньон. Эту дорогу строили романтики или рабы, не иначе. И этот город строили романтики или рабы. Он был разноцветным и прекрасным, голубой утром и сиреневый вечером, пока смотришь на него из окна мастерской. Он был тесным, угловатым, пахнущим горящей листвой даже в несезон, если идешь по его панелям. Это был больной город. Даже в фешенебельных районах. Но я любил его и рисовал. Вечером приходят гости. Гости художника приносят с собой вино (это традиция) и рассчитывают на легкий разговор с дозволительным флиртом, таким же легким. Неспешное разглядывание недавних работ. Хочется что-то сломать в этом ритуале. Но ты не волен. Все происходит всегда как всегда. Негромкая музыка, за которой кто-то следит, развалившиеся на широкой тахте студентки (врут, что будущие дизайнеры, выделываются) и двое моложавых преподавателей (один из них так же врет, что преподаватель). И мои картины, расставленные вдоль стены. И вино. Сегодня я решил разыграть своих друзей и подсунул им свои старые работы из папки "Мусор". Мне очень хочется услышать как они будут говорить о новых тенденциях, об усилении мастерства и находках. Я не сержусь на них. Очень странно, но среди работ нашелся прекрасный эскиз полуобнаженной девушки. Я его не помню. И странно, что он в мусоре. Рисунок дышал такой прозрачной свежестью восприятия, такой свободой линии, что я удивился и, рассмотрев внимательно подпись, понял, что эта работа все-таки моя. На меня нахлынула волна предчувствия нового языка, моей новой манеры, я увидел, что в этом наброске есть жизнь. Вы не можете представить, как я был обрадован. Я и сам себя упрекал в том, что являюсь занудой, педантом, рисовальной машиной. А тут? Вся проблема была в том, что я поначалу не мог отделить мой рисунок от модели, я не видел, где кончается человек и начинается образ, настолько это было свежо. Мне нужна была именно эта модель, только она. Работая с ней я смог бы понять каким образом она вызывает во мне это чудо. Я хотел отделить свое умение от нее. Но я не помнил ее! Я очень смутно представлял, где я мог сделать эскиз. Судя по ее одежде (упрощенный купальный костюм - плавочки) это могло быть только на пляже. У меня память профессионала, если бы я видел ее более десяти минут - я бы запомнил ее навсегда. Но, видимо, она просто прошла мимо. И я уже не слышал, что мне говорили. Что-то рассеянно отвечал. Я взял чистый альбом и сангину (друзья удивились, подобные развлечения не входили в обычную программу) и уселся напротив студенческой тахты. Девушки, несомненно, думали, что рисуют их - они утихли, одна даже обнажила плечо. Моя модель. Это идеальная моя модель. Вот она идет с пляжа. Вот улыбается встречной улыбке. Вот ловит такси. Хотя, нет. Она самостоятельна, у нее недалеко припаркована машина. Тоже нет. Она идет пешком. Тенистая улица, тесная, узкая, вся в немыслимых растениях. Маленькая забегаловка - бистро - но чашечку кофе она не хочет. Не по жаре. Вот она снимает туфельки, нет, это не туфельки, это спортивные тоненькие тапочки и идет босиком. Вот она заходит на газон, трава приятно щекочет. Вот свисток блюстителя порядка - по газонам ходить нежелательно. Вот ее обворожительная улыбка. Она идет босиком по тротуару. Друзья и девчонки уходят. Да, да, в следующий раз. (Циничный мозг вычерчивает: решили, что строю из себя гения и у меня приступ вдохновения, ну не страшно, каждый выделывается как может.) Ч-черт, сбили, сбили меня, сволочи. Она идет босиком по тротуару. Идет домой. Тщательно прорисовываю фон. Знакомое место. А, это же музей. Проходим мимо. Я проснулся от ужасной головной боли. Я лежал на полу. Подо мной был ворох бумаги, а на нем ноги, дома, магазины. И еще, еще. Но на одной из картинок я увидел девушку заходящей домой. Прекрасная витая тяжелая дверь и табличка с номером дома и названием улицы. 06. - Подъезжаем, подъезжаем! - Толстый человечек как-то неестественно суетился, казалось, каждым движением своим он оправдывается, что-то хочет доказать, в чем сам до конца не уверен. - К маме едет, - произнес Старичок. - К маме, - прибавил я утвердительно, хотя оснований к тому у меня совсем не было. Я представил себе его маму. Розовощекую фермершу с поросенком в руках. Поросенок мурлыкал и улыбался. - А если она - ученый? - предположил Старичок. А если она ученый, то непременно должна быть за своим письменным столом. "Мама", - скажет Толстый, она посмотрит на него взглядом естествоиспытателя, сначала на ноги, потом на живот, вздохнет укоризненно, но по-доброму (женщина она добрая), и уткнется в толстую, как сын, книгу. Сын виновато походит несколько минут возле нее, сядет в кресло и расплачется - они с мамой разных специальностей и не могут поддержать профессиональной беседы. Толстый тем временем еще протискивался к выходу, он был такого неестественного мнения о своей толщине, он считал ее такой невероятной, что с огромным трудом, чрезвычайно осторожно пробирался вперед (у него не было, замечу, никаких объективных оснований для того), малюсенький саквояжик болтался как паяц (Пелеле, см. Гойю) в его пухленькой ручке. Я еще понаблюдал за ним из окна, потом мой взгляд отвлек изысканный станционный фасад и я потерял из виду нашего милого попутчика. - Так мы и не узнаем, зачем он ехал, - констатировал Старичок. Было неясно, грустит он по сему поводу, или это было простым праздным любопытством. - Смотрите, какая великолепная чета! Я, вздрогнув для приличия, уставился в окно. Старичок не ошибся, это и в самом деле была королевская чета: Король и королева, в сопровождении принца. Много бархата, благородства в движениях, но что-то было неестественное в их моционе. - Вы тоже заметили? Принц слеп. Вот несчастный. Я всмотрелся. Да, принц был слеп. Но он совсем не походил на несчастного человека. Он улыбался, болтал с родителями, и в движениях его не проявлялась та осторожность, которая свойственна всем людям, неуверенным в реальности почвы под ногами. Король и королева (она была так прекрасна, что я мысленно назвал ее "Моя королева"), казалось, совершенно безразлично относятся к его несовершенству (слово "неполноценность" совсем не подходит). Проходя мимо нашего окна, мальчик несколько раз спотыкался, но ни Мать ни сиятельный Отец, который, как и подобает червонным королям, был немолодым и степенным, с белой окладистой бородой, не подхватили его, не попытались помочь рукою или советом. Меня это более чем удивило. Я не мог предположить, что сердца родителей были черствы к этому прекрасному, вызывающему горечь несправедливости, ребенку. - Он не знает, что слеп. - Что? Я не понимаю Вас. - Он не знает, что слеп. Это так естественно, подумайте сами. Он слеп с рождения, я хорошо знаю эту семью. Их королевство находится совсем рядом с домом моей кузины. Для того, чтобы будущий король мог править как полноценный державный муж - он не должен с детства испытывать неудовлетворения собой, считать себя ущемленным. - Но как это возможно?! - На самом деле нет ничего проще. Мы лишены с рождения десятка свойств, которые есть у многих, но ведь Вы не считаете себя неполноценным только потому, что не научились в свое время... летать, например. Летать я не умел. Точно так же как читать мысли и предсказывать будущее. Конечно, может быть, читать мысли я не умел по-другому, чем летать, но это было пока не так важно для меня. Но видеть!? Тем временем мальчик повернул голову в нашу сторону и осветившись улыбкой, приветливо замахал рукой. Король поклонился, Королева улыбнулась. Что-то в ее улыбке мне напомнило Веронику. Улыбка была настолько же очаровательной, как и хитрой, казалось Королева сказала: мы ведь с тобой знаем, что такое: На самом деле. Я даже на секунду подумал, что Вероника разыграла этот маленький спектакль, переодевшись в Ее Величество. - Я тоже их очень люблю, - прослезился Старичок.
Вечер проходил потерянно.
- Папа, что такое гора? - Гора - это такой большой холм. Он настолько большой, что невозможно не заметить, когда начнешь подниматься вверх. - Папа, что такое океан? - Океан - это очень много воды. Чтобы добраться до другого берега надо долго плыть. - Папа, что такое солнце? - Солнце - это большая звезда. Оно очень далеко, его присутствие мы замечаем по теплу, которое оно дает нашим лицам. Это очень сильный, очень далекий огонь. - Папа, что такое луна? - Луна - это маленькая остывшая звезда. Она вращается вокруг нашей планеты. Мы знаем, что она есть, потому что бывают приливы и отливы. Она не может греть, наши приборы регистрируют только частички солнца, которые она отражает. Красное солнце, почти бордовое, заглатывалось бархатным облаком, похожим на терем. Лес темнел. Из изумрудного становился цвета жженой умбры. Цветы полевые, которые радуют глаз не сочностью своего цвета, но разнообразием оттенков, склоняли свои мохнатые мордашки ко сну.
Но поезд не остановился, а только замедлил ход. На слабо освещенный перрон поспрыгивало довольно много людей, кто в пижамах и тапочках, кто во фраках, иные в разноцветных спортивных костюмах, и одна дама даже в бикини. Лотки располагались тут же и продавалось с них все; и большинство пассажиров ничуть не спеша делали покупки, спокойно расплачивались и садились в поезд через два-три вагона. Почему-то захотелось купить портсигар. Портсигаров было по меньшей мере три. По меньшей мере потому, что лоток был завален разного рода мелким товаром, но три портсигара бросались в глаза: они лежали рядом в окружении зажигалок, брошей, гребенок, цветных открыток, заколок, мотков лент и прочей цветной дряни. Серебряный показался слишком тяжел, золотой оказался фальшивым, хотя и искусно сделанным, а вот третий - кожаный, тисненый - понравился сразу. Слегка коричневая толстая кожа, на вид гладкая, на ощупь чуть шершавая; замок открывается с приятным щелчком, рисунок - глубоко тисненая цепь, опоясывающая портсигар с обеих сторон. Внутренность его оказалась из гладкого дерева, кожа изнутри прикреплена крохотными белыми гвоздиками. - Самшит, - сказал продавец. Сигареты приобретают неповторимый запах, достаточно подержать десять минут. Гарантия - двести лет. Попробуйте - и он не спеша наполнил портсигар из надорванной пачки. Ветер принес к лотку кучку мелкого мусора, обрывок бинта зацепился за его ножку. Поодаль, у выхода с перрона, мальчик продавал с подноса шампанское, уже разлитое в бокалы. Никто не брал. Королева-мать, проходя мимо, положила ему на поднос монету, мальчик протянул ей бокал, но она отказалась нисколько не надменным кивком. Дама в бикини заплатила за дюжину носовых платков и пошла к поезду. У нее было симпатичное лицо, но толстая спина, непосредственно переходящая в зад. Ничего, запрыгнула, только спина заколыхалась. Вагоны медленно двигались, у освещенных окон стояли люди, продавец сделал из трех портсигаров стопку, причем самшитовый оказался наверху. - Вижу, вы понимаете толк. Сделайте пока несколько затяжек, чтобы потом сравнить, - он протянул сигарету из той же пачки и зажигалку прямо с прилавка - эта штука у меня давно лежит. Не берут, такая вещь для любителя. Исключительно хорошо смотрится в таких руках, как ваши. Металл вам не идет. "Был тут у меня один, три дня, что ли, назад, вот как вы и даже похож. Тоже долго смотрел, тоже сигарету дегустировал, и тоже не купил" - последняя фраза слышится с удаляющегося перрона, но он не повышает голос. 07. Я вернулся в купе. Старичок мой читал какой-то культурологический журнал с красивой огненной лошадью на обложке. - Что символизирует эта лошадь? - Вы вернулись. Славно. Я было подумал, что вы, как маятник, проведете остаток дня и ночь. - Не осуждайте меня. Мне очень плохо. - Вижу. И не могу пока помочь. Вы еще не созрели. - Что? В каком смысле. - Вы знаете сказку о незрелом яблоке? - Разумеется, нет. Как оказалось, я вообще мало что знаю. - Ну, не нужно самобичеваний. У меня тоже была любовь с первого взгляда. - Надеюсь, ее не звали Вероникой. - Нет. Ее не звали Вероникой. - И вы думали о ней. - Разумеется. - И страдали. - Естественно. - Сильно. - Как водится. - Вы издеваетесь надо мой. - Ну что вы. Ирония, конечно же, почетная гостья любой беседы, но я не издеваюсь над Вами. Вы так считаете, потому что не знаете сказку о незрелом яблоке. - Мне странно. Я уже очень взрослым так и не понимал, как устроены телефоны. Мне всегда казалось каким-то таинством: я здесь, мой собеседник на Краю Земли, лететь до него шесть часов самым быстрым самолетом, а мы разговариваем, словно находимся в одной комнате. Но если ему станет плохо, я не смогу ему помочь, хоть буду слышать как он просит помощи, как он страдает. - Вы пытались не думать о ней? - Наверное, я бы смог, если бы знал сказку о незрелом яблоке. А пока чем более я заставляю себя не думать о ней, тем более и более мои мысли становятся занятыми ею. Но мне все равно странно. Как может быть так. Ведь она сейчас смеется. Или читает. Или гуляет с собакой. - Как выглядит ваша сказка? - Очень просто. Где-то очень далеко, когда-то очень давно, жил Падишах. История не сохранила его имени, ибо он не воевал со своими соседями, не строил огромных мавзолеев, не изумлял иностранных послов роскошью и величием, а посвятил жизнь своим близким, своему народу и своей стране. Он был очень скромен, умен, прост в общении, прозрачен в речи. Казалось, он тяготился своим положением, и судьба сыграла с ним одну из своих веселых шуток - настолько роль Падишаха не подходила к нему, а он не подходил к роли Падишаха. Но речь пойдет не о нем. Однажды в шахстве появился неизвестный человек. (Через несколько лет он станет прославленным на весь Восток мудрецом. Он будет служить главным визирем у многих властителей). Теперь же он искал своей первой должности при дворе нашего Падишаха. И вот какой между ними состоялся диалог. - Падишах, я хотел бы служить тебе и твоей стране. - Служи. - Я хотел бы занимать должность советника при твоем дворе. - Она твоя. - Ты не испытаешь меня? - Зачем? Если ты достоин ее, у тебя будет много возможностей проявить качества своей души и ума. Если недостоин, это тоже невозможно будет скрыть. - Но ведь так этой должности может добиться каждый. - Не так. Пахарь хочет пахать, ткач ткать, гончар создавать утварь. - Но человеком может двигать корысть и тщеславие. - Государство наше занято жизнью. И при моем дворе трудно разбогатеть. Точно так же тяжело прославиться. У нас у всех много работы, на подобные пустяки просто не остается времени. - Но мне нужно испытание. Я молод и хочу обрести уверенность в своих силах. - Если ты сомневаешься в них, зачем взваливаешь на плечи такую ношу? Если не сомневаешься, что может значить для тебя одна неудача? А молодость - просто качество души. - Я умоляю тебя, испытай меня. И пусть твое испытание будет одной из жизненных задач, которые мне предстоит решить. - Если ты настаиваешь, изволь. Приходи утром и я дам тебе задачу. А сейчас прости, у меня есть дела. Они расстались, а утром Мудрец пришел к Падишаху. - Доброе утро, мой господин. Я слушаю тебя. - Доброе утро, мой советник. В углу этой залы, видишь, стоят три сундука. В одном из них то, что заставляет меня огорчаться. В другом то, что радует меня. А в третьем то, к чему я остаюсь безучастным. Приди ко мне завтра и скажи, что в сундуках. Они расстались. Мудрец думал весь день, вечер и ночь. А утром пришел к Падишаху. - Доброе утро, мой господин. Я решил твою задачу. - Доброе утро, мой советник. Я слушаю тебя. - В первом сундуке богатство твоей страны. Когда ты смотришь на него, ты огорчен, что его не больше, чем есть, и хочешь его приумножить. Во втором сундуке также богатство твоей страны. Ты радуешься, что его не меньше, чем есть, и думаешь о том, как его не растратить. В третьем сундуке, конечно же, богатство твоей страны. Ты безучастен к нему, ибо прекрасно понимаешь, что не одним богатством жив твой народ. И еще я хочу добавить, мой господин. Мне кажется, что после твоей задачи я хорошо стал тебя понимать, и горжусь тем, что мне выпало счастье служить тебе и твоей стране. - Спасибо за добрые слова. Ты справился с задачей, и я знаю, что ты станешь достойным советником, мудрым и добрым. Через некоторое время Падишах умер, ведь он был уже стар. К несчастью, сын его (так бывает иногда) не стал продолжателем его дел и Мудрец покинул страну. Но где бы он не был, он со счастливой улыбкой вспоминал годы, проведенные с Падишахом. Вот такая сказка. - Красивая сказка. А что было в сундуках? 08. Я еще не успел дослушать эту сказку, как начал понимать, что у меня жар. Сам бы я никогда не догадался, но вагон начал разгоняться, набирать чудовищную скорость, от перегрузки лица моих знакомцев становились неестественно расплывшимися. Они (разумеется, не лица, а знакомцы) смешно стали размахивать руками, суетиться - я не слышал их. Я смотрел в окно. Моего купе. И писал в записную книжку свою новеллу - новеллу о шпалах. Жила-была шпала. Она была особенная. Железный костыль расколол ее пополам. Фактически их было две шпалы, но она ощущала себя одной. Но особенной. И всегда надеялась на особую судьбу. Но напрасно. Видимо, мне становилось еще хуже, потому, что количество сочувствующих в нашем купе увеличилось по меньшей мере втрое. Или мне кажется. Столько внимания. Я совершенно в нем не нуждаюсь. Едем по мосту над шоссе. Шоссе широкое, как река - четыре полосы туда и столько же обратно. Всякий раз, когда проезжаешь над чем-то высоко и по мосту, возникает странная мысль. Вам она тоже приходила в голову. Если окно моего купе открыто в этот момент, то я стараюсь что-нибудь бросить вниз. И смотреть на летящий предмет, словно бы это был я. Если хорошенько расслабиться, то даже ноги могут похолодеть от ужаса. Это только в оптимистических рассказах - в последний момент цепляешься за подоконник и перепуганный хозяин квартиры втаскивает тебя, поит кофе и дает сигарету. Здесь нет подоконников. Судя по отвратительному запаху, эти милые люди пытаются накачать меня коньяком. Напрасно, я - абстинент. За пятым вагоном, естественно, шел шестой. Шел он очень естественно, невнятно поскрипывая дюралевыми ребрами. Кто-то ехал и в шестом вагоне. Но это было уже далеко. По полю угнаться за поездом труднее. Легче просто шагнуть в завагонный воздух через (или сквозь?) дверь. Воздух плотен на самом деле, это не метафора, он не дает упасть на параллельные пути и удариться, а может быть и разбиться, о рельсы. В нем можно плыть, как в озере; учитывая вечернюю свежесть - в прохладном озере. Движение поезда придает разгон, которого хватает на резкий рывок вверх и в сторону, по-над плавно разворачивающейся панорамой. Я смотрю на себя, стоящего в тамбуре, цепко схватившегося за поручень, с кипящей под ветром шевелюрой. Что-то мне не нравится. То ли выражение лица (глаза прищурены), то ли судорожный жест руки (упасть, что ли, боится - а чего тут страшного?). Поезд мчится, моя же скорость резко замедляется, и вскоре фигура в открытом проеме двери становится еле различимой. - Господи! - думаю я, - Господи! Что это за наваждение? За что я еду в этом поезде уже скоро сутки, а перед глазами перрон, как сцена, и на сцене в трепещущем от пыли свете рампы стройная фигурка в красном плаще, а на заднем плане еще фигуры, и еще, и еще, и они исчезают, как гасят софиты, а потом остается один дальнобойный прожектор с узким лучом, и в его овале... Вероника? Может быть и Вероника, может быть, может быть, я ничего не знаю, ведь я еду уже скоро сутки, и я все забыл. Господи!... - Господи, нет ничего непонятней этого упругого полета, этого ощущения неба, этой вогнутой, словно гигантское блюдце, панорамы, близости неба. Сейчас, взлетев, я понял, что звезды - близко, и Земля близка к звездам, и я близок к Тебе, Господи! Там, откуда начинается черная полоска железной дороги, там, на склоне земного блюдца, там вокзал, и перрон, и густо гусеницы готовых к отправке поездов, и густо маковые зернышки непокрытых голов, шляп, платков и высоких дамских причесок, но я не вижу красной капельки, кровинки, я не вижу ее, Господи!... - Господи, дай мне силы не спрыгнуть с этого поезда сейчас, еще рано, или слишком поздно, но я чувствую, что сейчас не время, может быть это время придет, я хочу, чтобы оно пришло; и тогда я не буду раздумывать. Будет ли ночь или день, с моста или в пропасть, но я пойму, я услышу этот миг, если Ты не оставишь меня, а сейчас Ты со мной, спасибо Тебе, это бывает так редко и так нежданно. Неужели ее зовут Вероникой? Неужели это ее лицо промелькнуло, как в стробоскопе, в окне встречного поезда, неужели это ее гвоздики стоят в бутылке на столике, где неугомонный старичок разливает как раз сейчас коньяк в хрустальные рюмки, надеясь, что я составлю ему компанию? Боже, я все помню, помню отчетливо, как будто не прошло этих невыносимых суток... - Как прозрачен воздух, как продлен взгляд, как ясен смысл. Необъятен мир твой, Господи, но мы в нем не песчинки, мы - Лица; внизу города и полустанки, парки и пляжи, но прозрачен воздух и продлен взгляд, и облака не застилают лиц. И оказывается, что не надо вниз, надо - вверх, чтобы увидеть близко-близко город, обсаженную тополями тихую улицу, и выходящую из дома... Может быть, это тебя зовут Вероникой? Спасибо. И пора пить коньяк из маленьких хрустальных рюмок. Но я знаю, я помню, что за одиннадцатым - двенадцатый. Как может быть иначе? Вдоль полотна идет тропинка. Она ведет мимо негустого леса в лес густой и оканчивается (совершенно не раздваиваясь, странно) заросшим прудом. (Или озером, не знаю как их различают кроме размера. Пруд меньше?) В таких прудах любят водиться русалки. Поэтому вода здесь невкусная и пахнет женской секрецией. Вот промелькнул тридцать второй вагон сквозь ровную устойчивую рощу. В локомотиве не хватает мощи тянуть сквозь лес тридцать второй вагон. Стоп, стоп, стоп. Я знаю, что когда-нибудь надо начать отсчет сначала. Я сильно привык за это время к тому, что за седьмым - первый, за тридцатым - первый, за двенадцатым - первый, за тристашестьдесятпятым - первый. Она ведь не заканчивается. Она только хватает себя за хвост. И устраивает странный танец из этаких живых колечек. Шестьдесят третий вагон. Это не может быть необратимым. Ведь я так долго учился. Неужели напрасно. я записываю поезд на страничке из блокнота а страничка отрываясь улетает в никуда улетает улетает оставляя только что-то так похожее на то что оставляют поезда и не будет и не станет полустанков и перронов он один на этом свете и наверное на том и не надо и не стоит и не солнце и не ветер ни вчера и ни сегодня а потом потом потом нет не стоит сожаленья растерявшийся дежурный мимо мимо мимо мимо дальний свет сечет глаза в окнах тени круглый профиль и анфас карикатурный я записываю поезд туки туки туки туки Очень они разговаривают? Какое значение это имеет теперь. Вагон под номером девятьсот девяносто девять скользит по спуску. Немыслимый танец. Только обрывки аккордов, но фантазия дописывает, озвучивает и прожигает бесполезный ритм: туки-туки, туки-туки, туки-туки - и становится виден силуэт. Девочка-Ночь, посмотри мне в глаза. Дотронься до меня рукой. Пригладь растрепанный клок волос. Но слуги остервенелым движением разжимают мой немой рот и льют в него из тонкого сиреневого бокала сладкий сироп - липкий, связывающий дыхание, отвратительно пахнущий медом и поцелуем. Только дыхание. Туки-туки, неровное, рваное, разорванное, лохмотьями летящее вслед за высунувшимся из окна мальчишкой. Только дыхание. Теплым пятном на ладони, поднесенной к твоим губам.
Малиновый блин на занавеске - рассвет. Я приветствую девятитысячный вагон. Ты - юбилейный. Мы сядем в круг. Мы посмотрим друг на друга, и слеза, ощупывая кожу щеки, будет, слепая, искать воздух, которого мне так не хватило. Замаливание грехов. Нет замаливания - нет грехов. Я опустошен, я раздавлен. Смысл движения пропадает и остается только движение. Туки-туки. И только одно ожидание таится в потоке, ворвавшемся в щели окна. Туки-туки. Желтый поток стекает со лба и пропадает в Земле. Туки-туки. Ощущение наступающего праздника не дает возможности сосредоточится на главном. Какой твой номер, наступающий. И ленты, стекающие одна за другой на эту равнину, прочерченную редкой тропой, расчесывающие лес ровным пробором, оставляющие над рекой омертвелую мумию недавнего движения - они душат меня. Они слепят меня фарами никогда не прекратившегося, ровного как Смерть, такта. Туки-туки. Нет, не безмолвие.
Маленькая, величиною с детскую ладошку, если смотреть на нее с высоты четырнадцатого этажа, капля на горячий лоб. Холодная капля. Обжигающая своей натянутой гладкой кожицей. Еще одна. Еще. На беду я вечен, на беду. Скоро воздух наполнится нарастающим шумом двигающихся крыльев, но она пройдет мимо. Палач и жертва. Что может быть ближе этого союза. Шаги в коридоре. Затаив дыхание слушаю. Быть может, они отстукивают время до двери моего купе. У самой двери задержат дыхание - посмотрят на номера полок - и я услышу стук в дверь. Тук-тук-тук. Теперь, главное, не вспугнуть. Это она, но я не должен этого знать. Мне нельзя этого знать. Это должно быть неожиданно и странно. Ролики двери - в проем, а на пороге - она. Ты? Но приходит кто-то. И меняет компресс, желая хоть что-то изменить. Я благодарен, но совершенно неискренне. Три миллиона сто четвертый. А в клетке толстые прутья. Ее бесконечно можно мерять шагами, от этого она не становится больше. Ее нельзя вывернуть наизнанку и попытаться разглядеть в этом скоплении вселенных, планет и людей - Ту. Подхваченная водоворотом перелицевания, Она испуганно закрывает лицо руками и я снова и снова не вижу ее лица. Встречный поезд фарой под ноготь. Туки-туки, и взлохмаченные вены, как перерезанный кабель, вскрывают лохмотья кожи. Туки-туки, заколачивают гвозди в солнцеплетение ладони. Туки-туки, обламывается со стены портрет, и стекло крошится под пальцами, а я соскабливаю себя с фотографии, вот глаза, вот линия щеки. Нет лица. Скованное, ослепленное, прибитое мазутными костылями, в гипсовой повязке полотна умирает мое движение. Затихает боль. Но лицо не проходит. Туки-туки, шестой миллиард. 09. Хрустальные облака зелеными колоннами поднимались ввысь. Он стоял точно посередине, хотя середина была везде. Он стоял посередине мира, закрывал лицо руками, как того требовал ритуал. Я стоял на коленях и не смотрел на него. Я даже не знал, здесь ли он? Со мной? Я не мог чувствовать его дыхания и слышать биение сердца, я не знал, как он выглядит и выглядит ли вообще, мне дозволялось только одно: просить. И я просил. Сначала я попросил вечную жизнь, но пришла старость, все мои любимые умерли. Когда я хоронил своего сына я понял, что вечная жизнь мне не нужна. Тогда я попросил общения. С Шекспиром мы сочиняли пьесы, часами беседовали с Эзопом, пили легкие вина в компании фавориток Людовика ХIV, повесничали с Казановой, три года я ассистировал Лавуазье. Когда у меня было плохое настроение, я приезжал в Дублин и мы с Деканом вместе ненавидели этот мир. Но пришла скука. Меня уже не смешил Нерон, мне было тоскливо от паясничества Уайльда, я устал от занудства Клеопатры. Я захотел увидеть мир. Африка, Индия, Южная Америка - я прошел их пешком, проплыл на плотах и пирогах, проехал на лошадях, слонах и ламах. Три года я собирал коллекцию открыток с изображением Фудзиямы, три месяца украшал свое жилище, три недели играл в биллиард, три дня доказывал великую теорему Ферма. Тогда я решил схитрить. И мне захотелось хотеть. Желать. Жаждать. Алкать. Но тот, который стоял точно посередине мира, оказался хитрее. Он владел временем. И желания стали исполняться быстро, затем так быстро, что некогда стало насладиться их результатами, а затем и прежде, чем успеваешь подумать. Стало грустно и захотелось удовольствий. Чревоугодие быстро меня пресытило, от пьянства я заболел, что касается разврата, то я продержался довольно долго, а вот мазохизма не понял совсем. Больше всего меня развлекли "однорукие бандиты": я обнаружил в себе способность без особого труда их грабить, только вот неудобно возить в тележках мелочь. Я стал уставать. Я попробовал попросить ненасытную душу, и получил ее. Но быть ненасытным оказалось еще тяжелее. Ничего не оставалось, как захотеть знать. Свой первый вопрос я сформулировал так: - Зачем? Я стоял на коленях и не смотрел на него. Он стоял посередине мира, закрывал лицо руками, как того требовал ритуал. Он стоял точно посередине, хотя середина была везде. Хрустальные облака зелеными колоннами поднимались ввысь, преломленный свет обратился в радугу и поезд пошел в чудном поднебесном тоннеле. 10. - Нравится? - спросил старичок, - мне тоже. Пожалуй, наше путешествие проходит не напрасно. Я нахожу в нем немалое удовольствие. А вы не находите? От слова "удовольствие" меня стошнило. - Вы еще не совсем здоровы. Прилягте. Вам обязательно станет легче, через некоторое время. Через какое время он не знал. Я, впрочем, все равно ему не поверил. - Однажды я испытал облегчение просто от пешей прогулки. А в вашем распоряжении поезд. Вам непременно станет легче. Движение, знаете, успокаивает. Я знал. - Ничего особенного, легкая усталость, чуть-чуть укачало и, вполне возможно, съели что-то не то. Предлагаю чаю. Без сахара. (И без чая, подумал я). Давайте, правда, почаевничаем, за чайком и разговор наладится, и сердце успокоится. Сердце у меня не болело. Просто было ощущение тяжести, неотступной, давящей. Тяжесть находилась глубже, чем сердце. - Я-то знаю, поверьте. Боже мой, а какой у меня чай, я делаю его сам, там двенадцать трав и ни одной чаинки! (Ну вот, я был прав, подумал я). Кто по грибы, кто по ягоды, кто на рыбалку, а я - за травками. Исключительное занятие! Особенно помогает от радикулита, когда понагибаешься десять раз в минуту. А потом уютными зимними вечерами заваришь, какой пар! Запах! Тяжесть наваливалась не комом, а растекалась плотной резиновой пленкой по всему телу и душила, связывала, каждое движение затягивало путы крепче. Словно наручники. Смирительная рубашка. - Вкус! А здесь он у меня в термосе, хотите? А вообще-то сейчас станция и мы пройдемся. По твердой земле. Все равно устаешь трястись, хотя, надо признаться, поезд идет гладко. Я бывал когда-то на этой станции, там хороший чистый вокзал, просторный перрон. Я был смирным, меня не надо усмирять. Я уже согласен на все. В самом деле. Что Вы хотите мне предложить? Я согласен. - Купим газет. Там все последние новости. (Будто новости бывают не последними. Но в этих газетах новости не последние. Последних новостей там нет. Там их не может быть, последних новостей.) - Я устал болтать просто так. Вас она раздражает, моя болтовня, я знаю. Но я хочу Вам помочь. - Зачем? Напряжение этого вопроса, который прозвучал так неестественно, натужно, тем более, что я не разговаривал, наверное, уже часа три и не узнал собственного голоса, гулом прокатилось, отражаясь невнятным эхом: зачем, чем, чем. И утонуло, сделав третий блин. - Я пойду... - Вам надо лежать. У Вас только спал жар... Я не слушал его. Я встал. От долгой неподвижности удивление сверху прокатилось по телу: закружилась голова - серебряные змейки забегали перед глазами, ноги не чувствовали приказа - мятными обрубками шагнули в разные стороны, я потерял равновесие и упал на шершавую и мокрую дверь. Дергать ручку бесполезно. Дверь заперта (снаружи). И я пошел к окну. Уже будет утро. Черное рваное одеяло ночного склона будет прорежено слабым отблеском надвигающегося рассвета. Я буду смотреть этот час на дверь. Я не смогу занять себя иным. Буду смотреть в эту дверь до тех пор, пока солнце не нарисует на ней тенью мой силуэт. Или этот силуэт будет принадлежать уже не мне. Он станет совсем чужим, незнакомым, он станет таить в себе опасность, совсем как у Андерсена. И я смертельно захочу, чтобы это осталось сказкой. Легкой, на грядущий сон. На сладкий долгий сон. Будет ли это сказкой? Даст ли мне время возможность вспомнить это, или только предвидеть? Так можно предвидеть человека в накидке, где очертания лица только угадываются в капюшоне. А цвет глаз - за нелепой прорезью. Будет становится было и станет ничто. Нелепая загадка. Простой ответ, как лязганье ключей (непременно из огромной связки), с огромным кольцом, объединившим их. Простой, как боль, когда раскуют ноги, как свет в тюремном дворе, как булыжник, которым вымощена площадь. И только золото кирпичей. Золото кирпичей, серебро окон, желтый туман. Здесь все вытянуто вверх - шпили, башни, колокольни и столб, точно посередине площади. Упругие камни ее крокодильей кожей стягивали город к моим стопам. Мое тепло уже высушило росу на шероховатой поверхности гранита. Мое тепло маленькими ручейками растекалось в трещинки, покидая меня. Страх. Страх колючим комочком хватается тоненькими скользкими ручонками за колени, но меня мало беспокоят его шутовские ужимки. Я хочу видеть глаза. Я хочу видеть его глаза. Я хочу видеть его глаза, спрятанные за холщовой маской. Я хочу читать его глаза. Он явно не торопится. Стараясь подавить волнение, дрожь в руках, он, деловито, по связке, приносит к моим ногам хворост и аккуратно складывает; бесшумно, кажется - безучастно. Но я вижу, от меня не спрячешь натянутость выверенных, отрепетированных в мыслях движений, старательного прятанья глаз и явности этой неспешности. Как будто бы к каждому движению он добавляет по паре пустых операторов, бестолковое, в общем-то, занятие. Палач, жертва, жертва-палач, палач-жертва. Жертва, жатва, жать, рожать, рождать, рождение, день, деяние, деять, надеяться, деть (не кусай себя за хвост). Ему некуда торопиться. Решение принято. Смешные башмаки выписывают странный танец, который мог бы свести с ума всякого, кто имел бы смелость задуматься над происходящим. Унылую картину моего приготовления скрашивает только единственное живое существо данной сцены - жаровня, которая странно вздыхает, потрескивает и, вообще, пытается вести себя как можно естественней. Ничего не готово заранее. Странно, но вся жизнь - медленное приготовление к смерти - но как всегда ничего не готово. Загадка? Пошлость? Мы не разговариваем. О чем? Каждый из нас добросовестно готовится к главному, зачем мы здесь. Глаза ищут предметы, разглядывают вокруг, но не могут остановиться, выбрать точку внимания. Мозг только перечисляет: жаровня, бочонок со смолой, факел, его нужно зажечь, угли, поленья, хворост, - экспонаты, соответствующие скорее выставке: "Пожар и средства его поддержания". Попробовать работать чуть быстрее? Но так тяжело сказать себе: нет. И вот долгожданный миг. Я чуть не умер от тягостного ожидания и напряжения возни. Теперь можно взять в себя в руки и выкурить последнюю сигарету. А затем стать факелом, принести последнюю дань земле, впитающую мой пепел с дождем. Скорее же! Языки пламени лижут мне руки, как маленькие собачки, и эмоция ватными ногами добирается до подкорки: горячо, сейчас я согреюсь, подобно маленькой андерсовской девочке в новогоднюю ночь. - Ч-ч-черт. Спичка обжигает пальцы и, выруганная, летит на пол. Розово-малиновый восход рисует на запотевшем стекле размазанный след поцелуя. Окна начинают течь, разлиновывая матовую запотевшую поверхность прозрачными переливающимися дорожками капельных следов, наискосок зачеркивая утро. Ветер и движение переплетают паутинки воды в косы. Тамбур холодный и чужой. Замаливание грехов. Нет замаливания, нет грехов. Я опустошен, я раздавлен. Смысл движения пропадает и остается одно движение. Лишенное атрибутов целеполагания. И только одно ожидание остается раскрашенным в самые разноцветные краски. Каким будет первое слово? Желтый дождь наших желаний стекает со лба и пропадает в земле. Кому. Неужели первой? За прикосновение руки - жизнь. За движение голоса - глаз. Жертвенность так свойственна нетерпению и невозможности. Но голос. И я поднимаюсь. Я раздавлен, но я поднимаюсь. Я бьюсь в религиозном экстазе, но зеркало моего бога завешено полотенцем. Ощущение уходящего или наступающего праздника не дает возможности сосредоточится на главном. А что, главное? Слово? Вопросительный знак падает и давит собой все остальные знаки препинания (Пре - пинать, Пре - пона, Мем - брана) и остаются только вопросы: Как? Где? Каким образом? А за ними еще: Ты? Ко мне? Сейчас? И самое главное: Ты сердишься? Мечтаешь? Скучаешь? Ты понимаешь меня? Я опустошен. Ураган мыслей смешал выстроенные и упорядоченные защиты ритма, стиля, сути. И движения не остается. Я смотрю, но не вижу. Я иду, но по кругу. Я несу зло. Несу осторожно, боясь расплескать хоть каплю из хрустального кубка. Я несу зло по длинному узкому коридору, соединяющему нас. Я войду в твою комнату и на твоих глазах выпью до последней капли этот напиток. Ты отвернешься в страхе, и я увижу твою спину. И никто! никто! никто! не докажет, что я был не прав. Ты сбрасываешь с себя последние одежды и начинается немыслимый танец. Окровавленной змеей тянется нитка красной охры татуировки, по ногам, к животу и теряется на груди. Глаза закрыты, тело сотрясается в музыке, на раскрытых губах множится пена. В изнеможении ты упадешь на пол. Я наклонюсь и увижу твой взгляд и прорастающие в нем частоколы вожделения. Тогда я соберу последние силы и побегу. Сбивая дыхание, продираясь сквозь облепляющие сухие пальцы леса. Они бьют по лицу, обдирают кожу на руках, рвут одежду. Лес требует жертвы. Жечь. Нещадно. Жечь, пока почерневшие гнутые шеи деревьев обретут последнее напряжение смерти. Жечь. А потом устало брести по пепелищу. К людям. В город. Я вижу их. Но это странные люди. Странные. Непонятные, непонятые. Идут. Бредут. Падают. Спят. Едят. Хотят есть. Хотят жить. Боятся смерти. Будто смерть - нечто большее, чем ложь. Человек строит маленький мир. Он придумывает огромные дома и площади, и улицы, но строит маленький мир. Фотографии 17 на 12. Что тебе дорого. Маленькая чашечка кофе. Маленькие буквочки письма. Заправлена кровать. Странные люди. Придумали трамваи. Куда дальше. Куда уж дальше. Телефонный звонок как глоток воздуха. Где легче дышать. В одиночестве мыслей или в одиночестве чувств. Странные люди. Хочу к вам. Хочу быть вами. Но не могу. Я должен вернуться к себе. Собою. И путь продолжается. Длинные длинные долгие узкие коридоры. Старые ошелушившиеся серые темные шершавые стены. Когда идешь в своем бесконечном пути, даже бьющие светом лики бойниц не могут согреть, даже случайные застекленные лица прохожих не могут спасти. Но этот путь мой. Я никому не позволю, никому не уступлю, никому не дам приблизиться, не дам говорить, не услышу. Я никого не хочу видеть сейчас. Даже тебя. Я слаб. Я болен. Во мне больше ненависти, чем вдохновения. И словно наполняясь моим прикосновением, хрустальная капля повзрослела, напряглась, оторвалась и погасла. Она что-то хотела сказать, она хотела умереть на мраморе, она летела навстречу звуку, который должен был родиться с ее смертью. Капля упала на простынь. Она стала темным пятном. Вытри тушь, ты запачкаешь мне все белье. И уже что-то очень важное забыто. Что-то ушло. Что-то не приходило. Ты не можешь это услышать, это прошло мимо тебя. Но странно. Ты подбегаешь ко мне, кладешь ладонь на плечо: не сердишься? За что. Значит, не сердишься. Значит, не сержусь, а за что? Все равно не поймешь. Пойму. Здравствуй? Здравствуй. Я страшно голодна, у тебя есть что-нибудь? Только любовь.
11. И был снег - и не было сна - в желтых перепонках томились беспорядочно - и я спрашивал - и не было мне ответа - хоть отвечали мне - разлито было ожидание - а в ожидании много - и было тепло чужое и страстное - но не было любви - произнесено было слово жизнь - и осталось словом - произнесено было слово судьба - и осталось судьбой - произнесено было слово я - но меня не было с ними - и шел дождь - и падал дождь - и был дождь - и был ветер - и я не спорил - и не хотел спорить - и не хотел хотеть - и крики кто пришел обрывались немым порогом - и напрасно чистить дорожку от дождя - след рядом - он чужой - я уходил и меня провожали - кто-то радовался - кто-то сердился - кто-то спал - я шел по мокрой траве и тоже был искренним. Но знание мое уже во мне. Я чреват им. Наполнен. Я знаю, что придешь. Сейчас настанет звонок и я даже не успею написать то, что хочу. Ты придешь. Это не заклинание, это боль. Убей меня, я болен. Ты придешь, и я, задыхаясь буду пить твою речь, рисунок твоего лица, цвет твоих глаз. Я знаю, что ты придешь. Я не доживу до завтра, и не смогу узнать того, что ты не пришла. Ты приходишь. Ты идешь по улице, еще не зная, что идешь ко мне, еще не зная, что я тебя жду. Ты останавливаешься около моего дома, еще не зная, что это мой дом. Ты заходишь в подъезд, не осознавая того, что увидишь дверь и звонок. Твоя рука безотчетно поднимается, и ты нажимаешь кнопку звонка. И я слышу звонок. Это пришла ты. Я знаю, ты придешь ко мне. Я знаю это. И больше ничего я не могу знать. Потому, что я тебя жду. Я знаю, что ты придешь ко мне. Но я еще не знаю, кто ты. Грохот стих: поезд миновал мост. Дальше он катился практически неслышно, как по траве, которой был устлан приречный луг. Зеленый до безобразия. Мимо. Было глубокое утро и поезд стал понемногу просыпаться. Слышатся шорохи, кто-то начинает говорить. Молодая супружеская пара (я даже подозреваю, что они едут проводить медовый месяц) бросила обниматься и начинает ссориться, продолжив выяснения отношений, которые они прервали вечером для того, чтобы утонуть в долгом трех или пяти часовом поцелуе. Братья (они едут к крайнем купе) проявляют активность, свойственную их возрасту: в сумме им около двадцати лет. Один, который пробежал сейчас, пихнув меня в живот, вообще чудом остается в нашей компании, ибо мыслимых преград для него не существует: высовывается в окна по пояс, заглядывает во все купе, даже открыл на ходу дверь в тамбуре (не ту, которая соединяет несколько вагонов, а ту, которая может кратко именоваться "EXIT"). Братья милы, активны и непосредственны. Сейчас они, похоже, играют в прятки. Вагон не лучшее место для пряток. Коридор просматривается насквозь, а в многочисленных купе если и можно спрятаться, то вряд ли это обрадует пассажиров. Я сочувствую ребенку, я бы и сам спрятался. Я бы даже, пожалуй, растворился. Исчез. Испарился. Осел бы инеем на стекле. С удовольствием. Но проще все-таки спрятаться. Ну хотя бы вон в том большом чемодане. Здесь тихо и темно, только дышать трудно. Но можно приспособиться, если носом и не напрягаясь. Изнутри чемодан выстелен шелком, шершавым вдоль и гладким поперек, чуть пыльным, если щелкнуть его пальцем. Как хорошо быть странником, скитальцем, что отдохнуть на полпути прилег. Здесь поневоле сможешь ты понять что есть темница и почем фунт лиха качается вагон и тихо-тихо мой брат меня пытается позвать. Он открывает черный чемодан стащив его с багажника на полку и роется в вещах - а все без толку. Я потерялся. Нет меня. Никак. Как хорошо отсутствовать. Совсем. Мне это ощущенье незнакомо. Тук-тук. Входите. А меня нет дома. И дома нет. А дом-то мне зачем? Не сплю, не спится, и дышать забыл, а может быть найтись я позабуду, и незачем залечивать простуду, мне мама говорила - я простыл.
- Вы не видели мальчика. Из крайнего купе? - Ну, такого белобрысого? - Я не видел белобрысого мальчика из крайнего купе. - Они с братом играли в прятки. - Но мы не можем его найти! - Значит, он хорошо спрятался.
Он спрятался. Исчез. Растворился. Но через пять минут, когда у него кончится терпение (удивительно быстро кончается терпение у этих мальчишек, хотя впереди так много всего) черная крышка чемодана выгнется, отскочит и он с хохотом и пылью на лице выскочит из него, словно тролль. А я продолжаю говорить с попутчиками. Ведь надо ехать дальше. 12. Высшая мудрость. Легкие проповеди, тяжкие сны. Иной раз мне кажется, что высшая мудрость - это странная эквилибристика: мудрость, старость, бодрость. Иногда - против желания. Они спорят о чем-то, размахивают руками. Табу. И я заставляю себя не вступать в разговор. Ибо высшая мудрость говорит мне, что спорящие хотят высказаться, им совсем не важно быть выслушанными. И я молчу. Разговоры в поезде всегда инвариантно имеют свою динамику: начинаются странными фразами о погоде, обычно о месте посадки и месте назначения. Продолжаются философско-религиозно-экономической тематикой, с уклоном в политику. И заканчиваются немыслимыми монологами на пару-тройку часов, где слушающие постепенно полностью обновляют свой состав, а говорящий в последний момент замечает, что название станции совпадает с пунктом прибытия в его билете. Высшая мудрость прежде всего в том, что все нанесенное этой немыслимой цивилизацией я прячу, кутаясь в полное сосредоточение. Я не хочу судить. Поэтому я не замечаю, что спор распался, в нем образовалось две пары. Я, как и все живущие, обладающие рассудком и классическим образованием, имею свою точку зрению по этому вопросу, которая всегда будет отличаться от той, что вы мне предложите. Я могу закрыть глаза - и ничего не изменится. Проблема системы отсчета, скажете вы. Да. Но высшая мудрость учит меня иллюзорности всякого выбора. Все, что вы сможете мне противопоставить, будет всего лишь предпоследней итерацией. А в моем последнем ходе содержится антитеза всему. И вере и неверию. Мистикам очень легко. Они постигают бога в непосредственном общении. Но мистики - это глаза религии. Мы, аналитики - ее уста. Что такое молчащий бог? Жалкая карикатура на бога говорящего. Ибо в начале было слово. Это помнят и знают все. И остался только Фома Аквинский. Деятель. Подвижник. В истории религии есть свои темные белые пятна. Мне всегда казалось, что церковь мирилась с подвижниками, как со злом неизбежным. Ибо синоним деянию - безбожие. От поступка до атеизма, так я назову свою последнюю работу. Но мне не написать ее. Ибо высшая мудрость говорит мне о бесполезности подобных занятий. Ибо любое мое движение наполнено поступком, как сосцы родившей суки молоком. И моя вера требует от меня последней дани высшей мудрости - мой мозг сильно источен движением мысли. - Но в таком случае все Ваши аргументы лопаются как мыльный пузырь! - Отнюдь. Вы не учли такой вещи как контекст. Наше воспитание не может быть иным. Значит... Вы понимаете меня? - Сдаюсь. Я ухожу побежденным, но не сломленным. Я покурю и мы продолжим, с вашего позволения. - Конечно, конечно. Подумайте, кстати, почему у них так много незаконченных произведений? - Это понятно даже младенцу. Ваше предположение о концептуальности совершенно не доказывается данным фактом...
Наверное, отчасти он прав, он, единственный молчащий человек в нашем купе, застывший с четками в руках, тщетно пытаясь заставить себя не дышать. 14. Я вернулся в родное купе. Поймал себя на мысли, что категориальный состав моих отношений к происходящему делает легкий дрейф и большими красными буквами на двери начертает слово: Покорность. В купе меня, как всегда, ждали. Улыбкой. Я улыбнулся в ответ и на душе стало легко и спокойно. - Мне еще ни разу не удалось рассказать Вам ни одну новеллу, - в улыбке Старичка появилась надежда. - Отчего же. Я припоминаю. - Это гипербола. - Отвечу тем же: Ваши новеллы не имеют конца. - Ну и ладно. Эту нанайскую легенду мне поведал один эфиоп в Гонконге. Вы знаете, я дважды был в Гонконге. Оба раза было жарко, но интересно. Старик открыл свой портфель и выудил из него огромный, заросший мхом бубен, вонючую собачью доху и ожерелье из зубов (кажется, собачьих, но я не стал ему это говорить). Легенда по своему эпическому составу напоминала более песню, чем сагу. Язык был мне непонятен. - Жил-был нанаец Азмун, - говорилось в песне-легенде - он родился в ледяном доме, ел лед, пил ледяную воду и дышал ледяным ветром. У него была кожа из инея, шапка из снега, сапоги из изморози. Ледяной Азмун охотился на ледяных зверей. - Эй, зверь! Покорись участи своей, ибо участь твоя в моих руках. Не рычи и не пытайся заморозить меня дыханием своим, ибо дыхание твое не причинит мне вреда. Не кроши ледяными когтями оружие мое - нет моей вины в том, что оно поднято на тебя. Не старайся, зверь, пронзить меня холодным взором своим, не смотрю я в глаза твои, в глазах твоих начертана смерть, ты знаешь это лучше меня. - Эй, зверь! Ноги мои догонят тебя, руки мои повалят тебя, стрелы мои найдут сердце твое, ножи мои вспорют брюхо твое, дети мои мясо твое съедят! - Эй, зверь! - Кричал и кричал Азмун. И голос его отзывался в храбром ледяном сердце его. Нанаец Азмун был Великий охотник. Не ведал он страха, хоть вышел на охоту в свой первый раз. Но не мог он сказать об этом зверю. Зверь бы посмеялся над ним и ушел во льды. Но зверь не смеялся над ним. Он шел на охотника, оскалив ледяную пасть. Вот ледяные тела их столкнулись и ледяное копье Азмуна пронзило ледяное тело огромного зверя и из разверзнутой пасти его хлынула алая жаркая кровь. Нанайский или какой-то там другой язык, на котором Старичок вел свою песню, весьма красив, в нем звучные гласные звуки и протяжный слог. Когда много обертонов, это хорошо. В какой-то момент согласные пропали совсем и рассказ-песня перешел в протяжный переливчатый вой. Камлает, догадался я. Показалось, что и на этот раз он не смог довести новеллу до конца, ибо 1) я ему стал совершенно не нужен 2) на губах появилась традиционная пена и 3) волосы на голове стали дыбом (у него). Я решил, что акт может длиться достаточно долго и позволил себе пойти на привычное место - в тамбур.
15. Открываю дверь купе. Успеваю взглянуть в зеркало. Ужасная рожа. Узкий коридор. Белые занавески. Гравюра в рамке возле стоп-крана. Открытое купе проводника. Дверь. Можно выйти. Можно покурить. И еще, пока не кончатся сигареты в пачке. И еще, пока не кончатся пачки. Можно пройти в следующий вагон и покурить там. Или в следующий. Или не курить, потому что в горле першит. Можно потягивать пиво из банки и смотреть в окно. Можно все. А проще всего открыть, наконец, эту дверь и шагнуть в пробегающий лес. Все? Нет не все, понял я еще в полете, еще не приземлившись на покатую насыпь, аккуратно уложенную собачьими черепами, все только будет, настанет, наступит, стоит только пробиться сквозь ночной лес. Он уже встречает меня, он протягивает ко мне ладони и ловит нежным усыпляющим объятием. И я чувствую, как тонкие веточки вкрадываются в поры моей кожи и прорастают через капилляры в вены. Еще секунда - и кровь, растворенная соком, уйдет, и я пустой оболочкой буду выброшен к корням, которые, ласково улыбаясь, уже предвкушают ужин (раз ночь). Я не подарю вам эту секунду. Я сегодня не расположен к щедрости. И подарки дороги только те, которые дарятся от всего сердца. Нет вам моего на то согласия. Нет. И ускользаю. Тонкой тропинкой. Криком разбуженной птицы. Шорохом отполированных листьев под моими ногами. Это не кросс и не марафон, этому нет слова, но это надо. Промчаться сквозь путаницу трав и колючек, топтать невидимые во тьме цветы, раздвигать исколотыми руками угадываемые по лунному блеску ветки. Второе дыхание все не приходило, а ноги начали вязнуть и внизу нечто мягкое всхлипывало, постанывало и звало к покою, брюки намокли, обувь приклеилась к почве, в конце концов я упал на упругую кочку и, судорожно глотнув, почувствовал гнилую болотную воду. Острые листья разрезали щеку. (Раз болото, то надо тонуть.) И я начал тонуть. Как вы понимаете, мысль моя работала в этот момент не то чтобы слишком активно и очень хорошо. Но работала. Как могла. Она была одна - эта мысль во мне: Надо выбираться. Уже поздно. Никто в такое время по лесу не бегает. И когда я понял, что надо выбираться, то сразу увидел огни города, который начался внезапно и смело, как абзац. Нет ничего проще, чем найти прохожего в ночном пустынном городе, спящем городе. Нет ничего проще, чем задать один единственный вопрос: Где живет Вероника? И получив на него утвердительный ответ, не теряя ни мгновенья на поиск ближайшего картографического магазина, отправиться прямо к знакомому и такому радостному подъезду. Все? (Нет, не все.) В этой поездке много дверей, уже было стал думать, что они могут и не кончиться, что мир состоит из длинного (бесконечного?) ряда дверей, некоторые из которых открыты. Не так. Некоторым открыты. Некоторым же открыты не все, а кое-кому ни одной. Мне везло. Я оказался некоторым, и довольно длинный ряд дверей распахивался передо мной по мысленному приказу, кое-какие пришлось открывать ключом, ну а вот эту дверь, дверь дома, дверь дома на тихой улице, дверь дома на тихой улице в таком знакомом городе (просто раньше я не знал что эта дверь - та самая) я просто не могу решиться толкнуть. Может, и не надо. У меня было решение. Нужно было только выйти из леса хотя бы годом раньше. И теперь мы уже были бы знакомы, у нас был бы ворох общих знакомых, может быть даже несколько ссор. Но это было бы не совсем честно. Ни по отношению к прожитой жизни, ни по отношению к Веронике. Тогда она могла бы провожать меня на вокзале, и я бы, конечно, не опоздал. Ехал бы спокойно, а не стоял бы тут перед дверью. Держась за холодный металл ручки, покачиваясь в такт сочленениям.
Дракон на гравюре истекал кровью, его лицо было спокойно, он знал.
Поезд только-только отошел от перрона, он еще не успел проехать и ста метров. Девушке в красном плаще как-то особенно грустно (жалко все-таки, что Он не пришел, хотя цветы попали в хорошие руки). И все было красное. Гвоздики в руках, стоп-кран в тамбуре, плащ, который начинал теряться в манекенах встречающих-провожающих. Ничего не оставалось, как затушить окурок о стекло и с неприятным скрипом нарисовать сажей изломанный зигзаг. Окно туго идет вниз, туго, но идет. До боли в напряженных мышцах. Дверь в купе, наоборот, открывается легко, катится по полозьям. С приятным шорохом, щелк. Легкое движение, красивое, хочется повторить. И еще раз. Удивительно легко, неожиданно легко рвется проволочная пломба на рычаге стоп-крана. Это движение руки непривычно, реальное усилие не соответствует ожидаемому и несколько секунд находишься в невесомости. От прыжка с высокого крыльца вагона (ступени успели поднять) ждешь полета, но просто падаешь (сберечь цветы!). Гравий на невысокой насыпи обдирает колени, не замечая брюк. ветер ветер свист и гравий и разбитые колени а платформа от вокзала отделяется ступенью
Ты не удивишься, когда я буду дарить тебе твой букет.
- Как тебя зовут, Вероника?
Алексей Егоров Павел Яблонко Екатеринбург 1992-1994
|